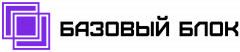Через какую оптику государство смотрит на крипту и блокчейн-технологии, какими понятиями оперирует, на какие институты опирается, к каким целям стремится и почему?
В этом выпуске говорим о государственном регулировании криптовалют, и наш гость – Михаил Ионцев, Доцент базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ, руководитель проектов юридического департамента Банка России, КФМН, PhD.
Обсуждаем международный контекст регулирования, подходы разных стран, специфику российского законодательства о ЦФА, и роль Банка России в разработке регуляторной политики. Не обойдем вниманием и тему CBDC, да-да!
Таймкоды:
- 0:00:04 — Начинаем!
- 0:05:08 — Как гость попал в крипту
- 0:07:22 — Международный контекст: централизованная vs децентрализованная модели
- 0:14:02 — Почему запреты неэффективны
- 0:16:15 — Мотивация регулирования: риски vs возможности
- 0:19:30 — Кастодиальная vs некастодиальная модели с точки зрения государства
- 0:22:30 — MiCA в Европе и иностранные цифровые права
- 0:25:25 — Legalese crash course: Цифровые права vs цифровые валюты
- 0:33:35 — 259-й закон о ЦФА и биткоин как коммодити
- 0:37:34 — Возможность GENIUS Act и cтейблкоины в рублях в России
- 0:43:24 — ЦФА во внешнеторговой деятельности
- 0:46:56 — Эволюция закона о ЦФА и рост рынка ЦФА в России
- 0:58:20 — Почему операторы ЦФА работают на приватных блокчейнах
- 1:01:35 — Почему криптобиржи нелегальны в РФ
- 1:06:13 — Регулирование в США на федеральном уровне и уровне штата: CFTC и SEC
- 1:09:03 — Легально ли пользоваться токеном А7А5 в России?
- 1:14:02 — Кто разрабатывает законы про крипту в РФ, какая здесь роль ЦБ?
- 1:18:20 — Цели Банка России в регулировании крипты: развитие рынка и финансовая стабильность
- 1:22:40 — CBDC и цифровой рубль: token-based vs account-based модели
- 1:33:06 — Цифровой рубль – это вообще про блокчейн?
- 1:35:08 — Статус CBDC в мире: эксперименты vs промышленная эксплуатация
- 1:37:09 — Примеры CBDC: Sand Dollar, Найра, цифровой юань, Казахстан
- 1:42:44 — Зачем нужен CBDC: мотивация государств
- 1:50:06 — Риски оттока ликвидности из банковской системы
- 1:54:55 — Просветительская миссия Михаила
Ссылки:
@MishaIA – Телеграм Михаила
Спасибо нашим спонсорам!
- 1inch.com — ведущая экосистема DeFi
- Zerion API от Zerion – Enterprise-grade web3 API
- Fluence – децентрализованная облачная платформа
- Acki Nacki от GOSH — the fastest blockchain possible
Поддержите подкаст! https://basicblockradio.com/donate/
Заходите в наш чат: https://t.me/basicblockradio_chat
Наш сайт: https://basicblockradio.com/
Теперь можно оформить крипто-подписку на Базовый Блок через Yoki Finance: https://pay.yoki.fi/basicblockradio/
Кликните, чтобы увидеть расшифровку выпуска
Дисклеймер: расшифровка сделана ИИ, возможны неточности.
Александр Селезнёв: Привет, с вами подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн Микрофона. Сегодня Александр Селезнёв, и это выпуск номер 209. Сегодня у нас выпуск немножко необычный, потому что обычно центром интереса нашего подкаста являются в первую очередь технологии. Однако, как вы знаете, в последнее время мы стали уделять больше внимания смежным областям: экономике, финансам, юридической стороне крипты и вот даже регуляциям. Почему? Сложно отрицать, что в последние годы все эти факторы оказывают едва ли не более сильное влияние на развитие блокчейн-индустрии, чем, собственно, сам энтузиазм разработчиков и исследователей.
И поэтому, когда мне предоставилась возможность позвать на подкаст человека, который хорошо знает, как работает регулятор, каким понятийным аппаратом он оперирует, я не смог от него отказаться. Я думаю, что даже если вас это вообще всё это не интересует и вы отъявленный криптоанархист, всё равно крайне полезно знать, из каких на самом деле предпосылок исходят те, кто регулирует крипту, регулирует нашу индустрию, какими они оперируют понятиями, какие цели они глобально преследуют — чтобы эту позицию не упрощать и не демонизировать, не дай бог, а лучше её понимать и как-то с ней и в ней существовать.
Сегодня у нас в гостях Михаил Ионцев. Михаил имеет достаточно солидный список регалий. Он и доцент Высшей школы экономики, РАНХиГС, член рабочих групп Гаагской конференции по международному частному праву, посвящённых регулированию цифровых активов, и руководитель направления юридического департамента Банка России. Михаил, привет.
Михаил Ионцев: Приветствую. Очень рад принять участие в вашем подкасте.
Александр Селезнёв: Взаимно. Я немножко расскажу, как мы познакомились с Михаилом. Мы познакомились на конференции CodeFest в Новосибирске, где мы оба выступали с докладами, посвящёнными крипте, и мне показалось, что Михаил очень интересный человек и собеседник. И я думаю, что наш выпуск, конечно же, будет несколько осложняться тем, что мы происходим из разных таких сфер и говорим несколько на разных языках, но тем не менее, я уверен, что получится очень интересно.
Михаил Ионцев: Да, я тоже верю в успех нашего сотрудничества, потому что всё-таки у меня там первое образование — оно математическое, и в целом я недалёк от вашей материи. Я думаю, по крайней мере, какие-то вещи я могу понимать из своих прошлых жизней. По крайней мере, буду стараться.
Александр Селезнёв: Супер, спасибо. И перед тем как мы начнём, я хотел бы поблагодарить тех, кто поддерживает наш подкаст. Это в первую очередь наши патроны, которые поддерживают нас на сайте Patreon и на сайте Boosty, а также на сайте Yoki. Огромное вам спасибо, ваша поддержка очень греет.
Также огромное спасибо нашим спонсорам. Наших спонсоров сегодня четверо. Это Zerion. Zerion представляет Zerion API — мощный инструмент для веб-разработчиков, с помощью которого можно в реальном времени получать данные о кошельках, токенах, DeFi-позициях на огромном количестве блокчейнов, включая Ethereum и Solana. API предоставляет детально, чётко читаемые транзакции, multichain, uptime — много девяток процентов. Существует масштабируемость в тысячи запросов в секунду, и API Zerion уже используют такие компании, как OpenSea, Uniswap, WalletConnect и другие.
Также нас поддерживает 1inch. 1inch — это проект с 23 миллионами пользователей и оборотом около миллиарда долларов в сутки. По данным DeFi Llama, 1inch контролирует около 60% рынка свопов. И через 1inch можно выгодно обменивать токены между Ethereum, Polygon, Arbitrum и другими сетями, получая лучший курс и защиту от MEV-ботов. А также важнейшая новость — это то, что 1inch уже на этой неделе сделали обмены между Solana и EVM-совместимыми сетями. Всё это работает, всё в проде. Это очень круто. Плюс 1inch делает кошелёк с личным ключом, мониторинг портфеля и крипто-карту. Для разработчиков 1inch делает полный набор API на 1inch.dev.
Также нас поддерживает Fluence. Недавно у нас был в гостях CEO Fluence Евгений Пономарёв. Большое спасибо. Fluence — это облачная платформа на базе децентрализованной инфраструктуры, которая предоставляет дешёвую отказоустойчивую альтернативу таким классическим облачным решениям, как AWS, Hetzner и Digital Ocean. С помощью Fluence вы получите доступ к глобальной сети независимых провайдеров, можете быстро запускать виртуальные серверы и разворачивать рабочие нагрузки по всему миру.
И last but not least нас поддерживает GOSH. Это core-разработчик блокчейна Acki Nacki, который основан на протоколе, достигающем консенсуса за две итерации — самый быстрый консенсус из теоретически возможных. GOSH готовится к запуску мейннета, и кажется, он уже — вот когда вы слушаете этот подкаст, вероятно, мейннет уже запущен. В комьюнити много, многие миллионы участников, и есть большие партнёрства с большими энтерпрайзами типа Oracle, Ampere Computing. Я очень надеюсь, что скоро мы делаем выпуск с лидером GOSH, с Митей Грошевским. Stay tuned.
Ну что же, после того как я поблагодарил всех, кто поддерживает наш подкаст, пришла пора развернуться лицом к нашему гостю. Михаил, мы всегда начинаем наш подкаст с одного и того же вопроса: как ты попал в крипту? Как она тебя заинтересовала? Ну, наверное, к тебе вот этот вопрос неприменим в том виде, в котором мы его обычно задаём, но вот как ты оказался связан с криптой?
Михаил Ионцев: Ну, на самом деле, всё достаточно банально. Мне нужно было получать и оплачивать своё образование в одном европейском университете. В общем-то, этот университет связан с психоанализом, психоаналитическим образованием, и одной из возможных опций — этот университет находится в Швейцарии — была возможность оплаты, собственно говоря, в цифровых валютах. И я, собственно, воспользовался, и с тех пор началась моя эпоха использования цифровых валют и изучения разных инструментов. Но это моя личная история.
Но я также работал и в Газпромбанке, где я там, собственно говоря, занимался развитием экосистемы и начинал заниматься развитием различных проектов, связанных в том числе с цифровой валютой, анализом — этим занимался активно.
Ну и своя преподавательская деятельность, моя, которая началась в РАНХиГС в своё время, она тоже началась с интереса к различным видам таких нестандартных способов инвестирования и платежа. И меня всегда интересовали новые явления, в том числе и в праве, которые вызывают определённые такие проблемы, потому что как регулировать оборот цифровых валют — это огромный вопрос, потому что эта сфера фактически находится в такой достаточно серой зоне с точки зрения регулирования. И то, как её лучше построить наиболее оптимальным образом — это одна из интереснейших задач, которая решается юристами по всему миру.
Ну и не только юристами и экономистами. Я буду сегодня неймдропить, наверное, но какие-то имена знать нужно, собственно говоря, и кого я буду рекомендовать для того, чтобы читать. Поэтому вот у меня, наверное, три мотива попадания в эту сферу. Первый — это личный, чтобы оплачивать образование. Второй — это профессиональный, как строить какие-то, скажем так, цифровые проекты. И третий — это академический интерес.
Александр Селезнёв: Круто, хорошо, спасибо. Я думаю, построим наш выпуск сегодня следующим образом. Давай, наверное, сначала поговорим про международный контекст — как вообще в мире в целом там относятся к разным ипостасям крипты, цифровых валют, как это принято называть в регуляторе, стейблкоинов. Потом я предлагаю, наверное, сузить наше внимание до того, что происходит в РФ, и немножко поговорить про специфику, как на практике регулируются разные аспекты — и DAO, и майнинг, и так далее, и так далее.
В общем, давай, наверное, начнём с каких-то общемировых, наверное, понятийных вещей. Я думаю, по ходу будем тоже вот разбираться в том, что означают те или иные слова, какие там основные понятия, из которых всё это исходит. Давай, наверное, вот с предельно широкого вопроса начнём. Какие сейчас тенденции и практики в регуляции по отношению к крипте сейчас в мире? Это там США, можно, например, отдельно рассмотреть ЕС, азиатские страны.
Михаил Ионцев: Ну, здесь достаточно, скажем так, сегодня мне отвечать на этот вопрос гораздо проще, чем там год или два назад, потому что на настоящий момент и группа G20, и Совет по финансовой стабильности, и Банк международных расчётов, и FATF — они, скажем так, конвергентно сошлись в какой-то определённой точке, в которой мы можем наблюдать единство позиций или их большее сходство.
Ну и даже Китай — вот недавно было заявление властей о том, что они будут пересматривать свою политику в отношении стейблкоинов.
Я в целом, наверное, здесь важно для меня как для юриста в целом определить то, что мы называем криптой или что мы не называем криптой, и в целом, собственно говоря, о чём мы будем предметно говорить, потому что когда вы говорите юристу «крипта», юрист может вас во многом не понять, о чём вы говорите конкретно. Кто-то будет иметь в виду стейблкоин, кто-то будет иметь в виду алгоритмический стейблкоин, кто-то будет иметь в виду нативную цифровую валюту, как биткоин или эфириум, и так далее. То есть кто-то будет NFT сюда же — разные совершенно объекты, огромный спектр, но для юриста это всё разные сущности будут. И они, собственно говоря, в юридической призме раскладываются по очень интересным кирпичикам — мы сегодня их тоже обсудим.
Но вот возвращаясь к тому, к чему сошлись всё-таки там группа G20, Совет по финансовой стабильности, Банк международных расчётов и FATF, — это к тому, что так или иначе нужно определённым образом создавать регулирование инфраструктуры, в которой осуществляется оборот цифровой валюты.
И таких подходов глобально может быть два. Первый — это создание централизованной инфраструктуры. Это классический подход или приём, когда, условно говоря, у вас создаётся определённое лицо в виде фактического посредника или юридического посредника (об этих тонкостях я могу позже сказать). Но самое главное, что это точка входа, которая предоставляет вам возможность использовать публичный блокчейн для того, чтобы осуществлять определённые операции с цифровой валютой, там с иностранными цифровыми правами или стейблкоинами и так далее.
Это, собственно, первый подход — централизованный, создание определённого лица, которое будет предоставлять тебе отчётность, которое будет проводить идентификацию. Какая это может быть модель — там тоже масса возможных вариантов. Это может быть кастодиальная модель, когда, собственно говоря, у вас этот посредник финансовый — он доступ непосредственно к самой цифровой валюте вам не предоставляет, он только отражает в вашем личном кабинете количество, какую-то картинку рисует. Вот, условно говоря, у тебя есть столько-то биткоинов. При этом сам он распоряжается — непосредственно только он, и у вас нет доступа к этому, ну, скажем так, адресу-идентификатору. Вот то, что у нас называется запись в реестре — вы можете даже и не знать этот адрес-идентификатор.
А есть некастодиальная модель, когда он просто обеспечивает доступ к блокчейну открытому, и вы сами уже совершаете все операции, там храните свои ключи и так далее и тому подобное.
Разные модели, но они централизованы. И такие подходы тоже есть в ряде государств — они свойственны, собственно говоря, странам СНГ: это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Эта модель активно адаптируется там, но не только там. В принципе, во многом она сейчас в силу распространения вот таких централизованных бирж цифровых валют типа CEX — вот их называют CEX, Binance и так далее, крупные какие-то институциональные игроки в этой сфере — так или иначе такой подход начал просачиваться и в Канаде, и в США, и в Бразилии, и в Аргентине, собственно говоря, по всему миру.
Другим подходом радикальным, который обладает своими плюсами и который тоже уделяет, собственно, внимание этих организаций, — это регулирование децентрализованных финансов. И вот если предыдущий пример — это был централизованные финансы, модель централизации, собственно говоря, блокчейна через институциональных игроков, другая модель — это децентрализованные финансы, когда мы говорим: окей, мы не регулируем тех, кто предоставляет доступ, каждый сам в принципе может получить доступ к открытой сети, и мы пытаемся тогда регулировать кого? В первую очередь разработчиков приложений — то есть мы их регистрируем, предъявляем им определённые требования, разрабатываем стандарты, ведём их реестр и так далее и тому подобное.
Второе — это аудиторы смарт-контрактов, то есть это лица, которые отвечают за безопасность и операционную непрерывность таких приложений. Тоже разрабатываем для них стандарты, порядок проверки, сами их проверяем, в общем-то, и так далее, и поручаем кому-то, какому-то государственному органу осуществлять надзор и контроль их деятельности.
Третье — это поставщики информации, оракулы, да, то есть разработчики оракулов, потому что информация, в общем-то, в открытом блокчейне играет невероятную роль. Да, собственно, и особенно та, которая подсасывается, скажем так, из биржевых источников всевозможных, с официальных источников и тому подобное — курсы валют, котировки и так далее.
В общем-то, мы всех, кого можем только регулировать, регулируем из тех, кто разрабатывает. Плюс мы можем также, как и, например, США, OFAC, к узлам предъявлять определённые требования, которые располагаются на зарегистрированной территории США, являются резидентами США, — определённые требования к тому, какие транзакции, как проверяются и так далее и тому подобное. Эта модель тоже оценивается, в том числе в регуляторных экспериментах.
И, ну, как бы подытоживая суть сказанного, что независимо от той модели, которая будет выбрана для регулирования — централизованной или децентрализованной в этой сфере, — общий вывод заключается в том, что регулировать эту сферу надо.
И здесь я сам себе задам вопрос: почему, собственно, регулировать? Почему это всё просто-напросто не запретить? Ведь, ну, как бы, это просто и понятно и, в принципе, не требует так много сил, там, усилий каких-то. И это очень сильный аргумент, если бы только не исследования, в том числе Банка международных расчётов и Совета по финансовой стабильности, которые показали, что такие запреты неэффективны.
Их администрировать практически невозможно. То есть вам нужно фактически установить контроль практически со всеми устройствами на вашей территории, полностью идентифицировать привязку этих устройств к лицам определённым и в режиме нон-стоп мониторить возможности выхода в открытую сеть, что, как вы понимаете, влечёт невероятное количество ресурсов. И должна быть отдельная, ну, такая криптополиция, скажем так, которая будет, собственно говоря, во многие разы, как представляется, превосходить весь государственный аппарат в целом.
И именно из открытости трансграничного характера открытого блокчейна вот этот запрет становится крайне неэффективным. И именно поэтому нужно создавать определённые регуляторные условия.
И вот, опять же, подводя микроитог вот этому выступлению, это и Международная организация комиссий по ценным бумагам сказала в отношении DeFi, это и Банк международных расчётов, особенно Рафаэль Ауэр, который возглавляет Центр цифровизации финансового рынка в Банке международных расчётов. Это и выступления членов, собственно говоря, правления Совета по финансовой стабильности.
И я хочу отметить, что вот этот Совет по финансовой стабильности — и всем рекомендую предельно внимательно следить за публикациями этого органа международного — они в топ-5 своих задач поставили именно создание регуляторной среды для DeFi, децентрализованных финансов, таким образом, чтобы сохранить преимущества, при этом минимизировать риски.
Александр Селезнёв: У меня здесь, конечно, сразу миллион вопросов возникает. Давай, наверное, последний, наверное, я попробую задать. То есть если я правильно понимаю вот эту вот альтернативу, как ты сказал, регулировать как-то там — словно регулировать там разработчиков, аудиторов, оракулов там, или требования к узлам, или там вообще там давать юзерам централизованную точку входа, или альтернатива — просто всё к чертям запретить, и тогда это всё там напоминает что-то, что происходит в Синьцзяне, Уйгурском автономном округе, когда полный контроль на всём.
Я в этом вижу мотивацию глобальную просто убрать риски — какие-то там риски, которые там появляются. Вот это главная мотивация, или есть всё-таки какая-то мотивация использовать возможности, которые эта технология даёт?
Михаил Ионцев: Ну, здесь нужно отметить, что, безусловно, как бы любая технология, она даёт как возможности, так и риски. Это — можно зайти практически на любую публичную панель, она будет всегда так звучать: там биометрия — возможности и риски, цифровые валюты — возможности и риски. Так можно сказать про любую технологию.
И, конечно, все международные организации в финансовой сфере, те, которые так или иначе уделяют своё внимание, и исследования, которые проходят в сфере финансового рынка, говорят о возможностях. И эти возможности сложно отрицать. Ну, все мы о них знаем — это и сниженные издержки, собственно говоря, и скорость совершения операций, и развитие платёжной инфраструктуры и, в общем-то, многие-многие другие.
При этом из рисков здесь — можно отдельно обсуждать тоже их, но они в целом тоже могут уже в настоящее время быть решены. Например, анонимизация — она позволяет за счёт цифрового комплаенса снять, ну, то есть анонимизация уходит из-за цифрового комплаенса. Цифровой комплаенс позволяет посредством разметки деанонимизировать любые, собственно говоря, транзакции, установить там определённые связи и тому подобное.
Другие риски — это взломы смарт-контрактов. Здесь, опять же, за счёт аудита это разрешается. И вот совсем недавно мы с тобой уже в моём юридическом клубе обсуждали протокол Aave. И, ну, это, в принципе, один из крупнейших протоколов с огромным, ну, как бы, с огромной какой-то внутренней капитализацией. Вот, и, в принципе, есть работоспособные инструменты здесь, как минимизировать эти риски.
Александр Селезнёв: Окей, хорошо. Давай, наверное, сейчас попробуем чуть подробнее пройтись тогда по, наверное, вот каким-то сущностям, которые, таким свойствам крипты, которые сейчас вот в ней есть, и тому, как вообще к ним относится регулятор.
Вот мы уже, там, уже условно ты упомянул, что анонимность — что анонимность это bad, это плохо. И тут для регулятора, я так понимаю, ну, там, я так понимаю, это обвешивается там риторикой про то, что, ну, там, мы хотим уберечь, там, законопослушных граждан от каких-то злоумышленников, если я правильно понимаю.
Михаил Ионцев: Ну, конечно. Да, любой регулятор, в принципе, заинтересован в том, чтобы финансовые инструменты, различные, не использовались вообще в целом — финансовая инфраструктура — для злоупотреблений в разных сферах.
Александр Селезнёв: Окей. Вторая вещь — это, там, кастодиальность и некастодиальность, как ты уже упомянул, что есть, вот, у нас, в принципе, два принципиально, там, разных подхода. Это первый — это когда мы вообще всё просто on user’s behalf, как называется, от имени пользователя, сами всё храним, а юзеру просто, там, цифры на веб-сайте показываем. Вот, и есть, там, некастодиальный подход, когда мы регулируем, как бы, не юзера, когда юзер сам может в своём кошельке всё хранить, и регулируется что-то дальше.
Сейчас я попытаюсь сформулировать, наверное, свой вопрос. Давай вот кастодиальная модель.
Михаил Ионцев: Ну, кастодиальная модель, смотри, кастодиальная модель — это очень просто. Это фактически, ну, расчётный банк, если ты… Ну, и это фактически банк, потому что, по большому счёту, у тебя одна организация… Ты, как бы, в банк ты приносишь наличку, он тебе открывает счёт, и, как бы, ты по счёту даёшь поручение.
Здесь то же самое: ты можешь принести наличку в эту организацию, она тебе купит крипту, будет там, условно говоря, проверять её на риски и тому подобное, и так далее и тому подобное — открывать тебе адреса, хранить, управлять этими адресами и тому подобное, собственно говоря, и совершать также операции от твоего имени по твоему адресу-идентификатору, который тебе открыла.
В принципе, это ничем не отличается от тех банковских операций, которые у нас есть, только она для тебя всё это будет делать, потому что там будут профессиональные экономисты, профессиональные юристы и так далее, и ты будешь таким обычным пользователем, который пришёл.
Некастодиальная модель — она предполагает большую самостоятельность пользователя и большую его такую квалифицированность, что ли, потому что здесь тогда вот этот посредник — он меньшую роль играет в совершении операций. То, как он их не совершает, значит, ты можешь совершить какую-то кривую операцию, условно говоря, где-то заблокировать свои денюжки на каком-нибудь протоколе или ещё что-нибудь. Ну, там, масса есть вариантов. Но в целом и такая модель рассматривается регуляторами во всём мире, и она оценивается тоже, потому что у неё есть огромные плюсы.
Плюсом, во-первых, является то, что такому посреднику нужно меньше издержек — ну, он сам несёт меньше издержек, значит, вход на рынок выше, значит, конкуренция будет тоже выше, что, собственно, всегда хорошо, что, ну, как бы, позволяет сервисам развиваться. Но другим ещё главным преимуществом здесь является то, что фактически это такая более компромиссная модель с классическим таким обычным диким DeFi, когда ты вообще никаких посредников не придумываешь, но, в общем-то, просто регулируешь тех, кто создаёт эту среду, фактически, — тех, кто создаёт блокчейн, а не тех, кто его использует.
А здесь у тебя всё равно появляется поставщик услуг, который говорит: вот, привет, через этот вход, пожалуйста, проходите, а дальше уже сами гуляйте в лесу, делайте что хотите. И FATF, кстати, склоняется к некастодиальной посреднической модели в том числе тоже. Она говорит: неважно, какой у вас будет посредник — то есть он всё будет делать от своего имени или только предоставлять услуги по доступу к открытым сетям, главное, чтобы он проводил идентификацию, собственно говоря, тех лиц, которые совершают операции, ну, и как-то отслеживал там, что, как они совершают, обогащал базы данных для цифрового комплаенса.
Александр Селезнёв: А вот я вспомнил — если ты там в курсе, вот, там, как сейчас в Европе дела обстоят. Если я не ошибаюсь, у них вот сейчас как раз вот был вот этот законопроект MiCA. Я вот не помню, его приняли уже?
Михаил Ионцев: Да, да, его приняли в 23-м году.
Александр Селезнёв: Мне казалось, что-то он был как раз такой достаточно, там, restrictive, не знаю, как-то по-русски. То есть мне казалось, что там как раз обсуждалось, что нельзя вообще иметь некастодиальный кошелёк. Как в итоге они его приняли, в каком виде?
Михаил Ионцев: Ну, смотри, здесь надо ещё вот… Хороший вопрос в целом. Действительно, они рассматривают преимущественно кастодиальные сервисы, потому что де-факто они создают, ну, классический инструмент, классическую инфраструктуру — банковскую, платёжную в том числе. И они регулируют только оборот иностранных цифровых прав.
Вот, иностранные цифровые права — это то, что, собственно говоря, является имущественным правом и обращается в любой информационной системе, которая организована не в соответствии с российским правом. Если говорить совсем на таком обиходном языке — это стейблкоины. Некоторые стейблкоины действительно могут быть признаны иностранными цифровыми правами.
И здесь я подчеркну такую, знаешь, ключевую разницу. Почему вот… То есть меня, как юриста, всегда тянет в юридическую лексику, потому что я живу в этой системе координат. И, как бы, ну, вообще, всё началось с Древнего Рима. Я не мог не сказать сегодня об этом, что, как ещё, там, Цицерон говорил о крипте… Вот, но на самом деле в Древнем Риме было деление вещей на, собственно говоря, res corporales, res incorporales — то есть вещи телесные и бестелесные, условно говоря.
И с тех пор в юридической доктрине куча копий была сломана о том, как это понимать — это понимать вещи осязаемые и неосязаемые, это понимать только как вещи и права, например, имущественные, и так далее. То есть там гигантская дискуссия развилась.
И чтобы здесь сказать такое: когда у меня есть какое-то лицо, которое говорит «я вот тебе обещаю, что вот этот токен удостоверяет возможность у меня потребовать что-то», то есть этот токен означает, что ты можешь ко мне прийти и что-то со мной разбираться по поводу того, почему он не работает, работает и так далее и тому подобное, — когда есть какое-то имущественное право, как, например, в Tether, USDT, то тогда, конечно, это для нас, как бы, воспринимается как какие-то правоотношения, которые, ну, вот, связаны с иностранными цифровыми правами, потому что иностранное цифровое право — это имущественное право, то есть это требование к кому-то, например, может быть.
А цифровая валюта — ты никому не предъявишь никакого требования. Ты же не придёшь к узлу и не скажешь, там, к майнеру, условно говоря, который выпустил, там, закрыл определённый блок и выпустил биткоин: «не скажешь ему — а вот что-то у меня тут биткоин, там, не так, не всяко».
Александр Селезнёв: Сейчас, сейчас, давай сейчас на всякий случай уточним, пока мы это недалеко не ушли. То есть ты сейчас, когда говоришь «цифровая валюта», ты подразумеваешь, условно, нативный токен сети — биткоин, эфириум? Окей, хорошо. А когда ты говоришь «иностранное цифровое право», ты подразумеваешь какой-то, условно, стейблкоин, или, да, или, ну, как называется, collateralized, обеспеченный стейблкоин, да, получается? Или уже есть какие-то…
Михаил Ионцев: Стейблкоин, я так понимаю, это тоже вроде как, по вот этой характеристике, иностранное цифровое право.
Александр Селезнёв: Вот. Ну, то есть, вообще, как бы, очень просто здесь происходит классификация такая. У нас законодатель в 18-м году предпринял попытку определить, что такое цифровые деньги и цифровые права, и, в общем-то, потерпел определённый фейл, неудачу, потому что были внесены в Гражданский кодекс только цифровые права — это статья 141.1.
Но общее между цифровыми правами и цифровыми валютами заключается в том, что ими можно распоряжаться непосредственно. То есть я могу, скажем так, передать тебе там что цифровую валюту, что цифровое право, ну, как бы, не прибегая к какому-то посреднику, который ведёт централизованный учёт. То есть такое невозможно сделать, например, с любыми другими имущественными правами.
Например, если я хочу тебе передать безналичные денежные средства, я должен в банк дать распоряжение, и он осуществит перевод. Вот, то есть здесь без банка не обойтись. Если я хочу тебе передать бездокументарные ценные бумаги, то я реестродержателю или депозитарию даю распоряжение, и он, собственно говоря, переводит тебе определённое количество ценных бумаг.
А здесь получается, что у меня сущность не материальная — это имущественное право, но я могу сам тебе непосредственно перевести просто. Если ты мне скажешь свой адрес-идентификатор, я тебе закину несколько цифровых прав или там цифровых валют.
Это общее между цифровыми правами и цифровыми валютами с точки зрения права — что ими можно распорядиться без обращения к посреднику. Можно и с посредником, но принципиальным является то, что ты распоряжаешься с ними так же, как и с наличкой, например. Наличка — мне тоже не нужно идти в банк, чтобы передать тебе наличку, вот, если она у меня есть в кармане лежит, вот, пожалуйста. Или вещь — чтобы яблоко тебе отдать, то есть я непосредственно тебе его передам.
А разное между цифровыми правами и цифровыми валютами с точки зрения права, опять же, — это то, что у цифровых прав всегда есть лицо, которое их выпустило, — эмитент. А если их выпустил эмитент, это значит, что эмитент зашил туда какое-то право. Ну, например, он говорит: «Ты можешь использовать это для погашения долгов каких-то любых». Вот, если вы договоритесь вдвоём, что это будет считаться как бы за погашение долга, то окей.
При этом возникает вопрос, что меня… Вот у тебя, например, USDT лежат, а я — Tether. Они там недавно перерегистрировались, я новое название ещё не запомнил. Вот, но я, собственно говоря, тебе в правилах, которые на сайте размещены, описываю объём твоих прав. Я говорю, что я обязуюсь поддерживать его там низкую волатильность, я обязуюсь перед тобой хранить определённые резервы, которые будут обеспечивать эту низкую волатильность и так далее. И я говорю, что любые споры, которые у нас возникнут, мы будем разрешать вот в таком-то порядке, в таком-то третейском органе. И, ну, как бы, ты имеешь право от меня что-то потребовать, собственно говоря.
Вот это уже будет цифровое право — у него есть эмитент. А у цифровой валюты нет эмитента. То есть цифровая валюта, условно говоря, как грибы — она растёт сама по себе. Вот, там ходят дожди какие-то, проливаются, ещё что-то, и вот вырастает цифровая валюта. Она возникает как бы сама по себе с точки зрения юристов.
Поэтому, подытоживая общее и разное, мы знаем, как юристы, цифровые права и цифровые валюты: общее между ними то, что можно распорядиться непосредственно и тем и тем, а разное заключается в том, что у цифровых валют нет эмитента, а у цифровых прав всегда есть лицо, которое их выпускает, — эмитент.
Александр Селезнёв: Ну, то есть с юридической точки зрения цифровых валют — я на всякий случай повторяю и для себя, и для слушателей — цифровая валюта, биткоин, у него эмитента с юридической точки зрения нет, потому что некому идти, условно, жаловаться, вот, к, допустим, обеспеченным стейблкоинам или там, не знаю, каким-то там real-world assets, не знаю. Вот они — это уже… Хорошо, так это уже цифровые права.
Хорошо. И когда мы начали с тобой говорить про MiCA, вот сейчас назад вернёмся к этому. Ты начал, ты сказал про иностранные цифровые права. Я, насколько понимаю, это вообще понятие, которое, ну, в российском, в российском законодательстве существует. То есть в европейском законодательстве оно в европейском законодательстве есть или там как-то по-другому это называется?
Михаил Ионцев: Смотри, в европейском законодательстве, если говорить о законодательстве Европейского союза, это как раз-таки вот регламент MiCAR, и он знает несколько видов токенов. То есть там это называется там digital token, и там есть разные виды digital assets. То есть там есть, например, если, условно говоря, твой токен номинирован в фиатной валюте какого-либо государства и только в этой валюте, то это вообще электронными денежными средствами называется и регулируется в соответствии с требованиями об электронных денежных средствах.
Вот, то есть это EMDs, практически те, которые существуют в России уже тоже достаточно с десяток лет, в 161-м законе, пожалуйста, там с восьмой, по-моему, по десятую статью можно ознакомиться, что это такое.
Потом там есть, например, такие цифровые активы, условно говоря, которые обеспечены каким-то имуществом — там высоколиквидным, то есть у тебя есть фонд и так далее. И они тоже регулируются MiCAR. Вот, это в принципе два вида токенов: EMDs и те, которые обеспечены, как Tether, там золотом, например, акциями, облигациями, там государственными какими-то бумагами и тому подобное, и за теми там цифровыми валютами, которые у них есть на балансе в открытых сетях.
И здесь я хочу, знаешь, наверное, такое сделать, что в целом европейское законодательство оперирует термином asset, который переводится на наш язык как «актив». Но в российской юридической доктрине, в юридической номенклатуре, актив — это, ну, максимум в бухгалтерском учёте используется, потому что, ну, для нас актив — это что-то полезное, что-то классное, что-то, что мы можем видимо использовать. Вот, но в гражданском праве всё немножко по-другому.
У нас это слово «имущество». И вот у нас есть имущество, которое может быть либо чем-то таким — имущественными правами, как я уже говорил, и тогда это цифровые права, либо вещами, и тогда, видимо, это будут как и цифровые валюты, потому что у вещей тоже нет эмитента. У них, конечно, есть создатели, но, как бы, он тебе ничего не должен, создатель стула, кроме гарантии качества.
И к цифровым валютам, видимо, ну, многие сводятся, по крайней мере в отечественной доктрине, о том, что их нужно регулировать как вещи. Вот такой вот, может быть, немножко нестандартный вывод.
И в целом, если говорить о термине «иностранные цифровые права», здесь, ну, как бы, очерчивается, что у нас самое главное в отношении иностранных цифровых прав — что мы говорим, что это какие-то имущественные права. И тогда мы рассматриваем конкретный стейблкоин, который обращается в информационной системе, открытой, и мы смотрим: окей, является ли он имущественным правом? А для этого нужно установить тогда: кто его выпустил? Выпустил ли его кто-то или нет?
Если его кто-то выпустил, условно говоря, и что-то пообещал в соответствии с правилами, то тогда это иностранное цифровое право. И это максимально широкий перечень, то есть под иностранные цифровые права не попадает только иностранные ценные бумаги. Например, электронные денежные средства, выпущенные во Франции, — это тоже иностранные цифровые права с точки зрения нашего законодательства.
И здесь, собственно говоря, была, как бы, идея в том, что если мы откроем 259-й закон, то увидим, что операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, они могут любое иностранное цифровое право, там, которое удовлетворяет требованиям, которые устанавливает Банк России, взять, квалифицировать в качестве цифрового финансового актива и обращать в своей информационной системе.
То есть предоставить возможность использования этих иностранных цифровых прав российским пользователям, вот, которые находятся в России, в том числе, внутри российской инфраструктуры финансовой, но при соблюдении определённых условий.
Александр Селезнёв: Так, хорошо. Давай про это чуть-чуть дальше потом поговорим. Я бы сейчас, наверное, хотел ещё чуть-чуть задержаться, наверное, на каком-то международном контексте. Давай, так, задам какой-то общий вопрос.
То есть верно ли я понимаю, что сейчас, условно говоря, в мире, ну, я думаю, для меня это, вроде как, достаточно очевидно, в любом случае раз поговорили, что вот сейчас в мире есть такое понимание, что есть, условно, стейблкоины — какие-то, которые что-то означают в реальном мире, что у меня 10 USDT — значит, мне Tether 10 долларов должен. Значит, есть подобные вещи.
Вот, есть, условно, биткоин, ну, давай, и ему подобные вещи, которые, по сути, являются коммодити, то есть это некоторые там, как золото: я вот купил здесь за 100 долларов, продал там за 200, и там, не знаю, с разницы я налог заплатил, и, в общем, ну, то есть к биткоину, там, требования, по сути, ну, то есть в правовом смысле биткоин предельно на золото похож. Правильно я понимаю? Всё, хорошо.
Михаил Ионцев: Да. И здесь сразу, знаешь, хочется добавить в том, что, вот, когда закон первый раз приходил в 18-м году, это 34-й закон, то он… там были цифровые деньги, и это более корректно, чем «цифровая валюта», потому что с точки зрения там, как бы, доктрины публичного права валютой называется именно то, у чего есть государственный эмитент.
То есть доллар — это валюта Соединённых Штатов Америки, а рубль — это валюта Российской Федерации, юань — это валюта Китайской Народной Республики. Валюта — это то, у чего есть определённый публичный эмитент. У цифровой валюты не то что публичного эмитента нет — у неё вообще эмитента нет. Поэтому называть её, скорее, цифровыми деньгами было бы более корректно, потому что, ну, деньги — это экономическое понятие, которое обладает определённой характеристикой.
И с точки зрения права, там деньги — это… деньгами может быть всё что угодно, по большому счёту. У нас деньгами является то, чем погашаются денежные долги. И такой забавный факт здесь есть то, что, во-первых, у нас деньгами являются, с точки зрения права, как вещи, так и имущественные права. То есть у нас даже с точки зрения права деньгами являются различные объекты права.
Вот, ну, то есть, как бы, вот мы думаем: ну, деньги, деньги, наличка, безналичка — какая разница? С экономической точки зрения, наверное, никакой, хотя в зависимости от сферы экономики, конечно. Но с юридической точки зрения здесь принципиальная разница, что деньгами могут быть как вещи — наличные деньги, так и имущественные права — безналичные деньги.
А безналичные деньги — это что такое? Это права требования мои к банку. То есть я требую у банка, я говорю: «Банк, ты, если что, мне вот столько должен». И мы все согласились меняться этими долгами между собой.
И есть учёные, которые считают в наши дни, тоже это, как бы, Суханов Евгений Алексеевич — такое, как бы, большое лицо в цивилистике отечественной, — он считает, что безналичные деньги — это вообще не деньги, например. То есть есть такая позиция, хотя вот она достаточно спорная, на мой взгляд, и мне с ней сложно согласиться.
Поэтому цифровая валюта, скорее, это цифровые деньги. «Валюта» скорее вносит в замешательство. И вот 325-й закон об организованных торгах — он говорит о том, что в принципе цифровая валюта может быть признана биржевым товаром в рамках экспериментального правового режима.
Александр Селезнёв: Окей, я понял. Хорошо, давай, наверное, сейчас вот самое время, наверное, здесь ставить мой вопрос. Насколько я понимаю, сейчас можно посмотреть на последние принятые законы в США. Там у них был GENIUS Act — это акт про стейблкоины, который, по сути, сказал: мы с распростёртыми объятиями принимаем стейблкоины, которые там выпущены в USD, значит, там эмитент зарегистрирован в США, и так далее — зелёный свет, мы очень рады, пожалуйста, выпускайте свои стейблкоины, используйте их для оплаты товаров и услуг и так далее.
Вот, в Европе такого нет, там это пока, я так понимаю, ещё плюс-минус там какая-то, плюс-минус серая зона, ну, не до конца очерчённая.
Вот, насколько я понимаю, в России это пока красный свет этому всему данному. То есть я так понимаю, стейблкоин в России, в рубле, — это вещь пока что невозможная. Почему такая разница отношений? Вот, почему бы не сказать, что вот стейблкоин в рубле — это примерно то же самое, что и я там, не знаю, Сбербанк Онлайн деньги перевожу, там, не знаю, бабушке на 10 тысяч рублей. Почему я не могу и 10 тысяч стейблкоинов рублёвых переводить?
Михаил Ионцев: Ну, здесь есть разные подходы, и, знаешь, я, наверное, скажу так, что в США они тоже, если обратить внимание, у них подход ровно такой же, как и в Евросоюзе, в плане того, что: будь резидентом и выпускай любые валюты, которые есть на нашей территории, ну, в привязке к фиатным валютам, которые есть на нашей территории. В США это только доллар, а в Евросоюзе это евро, национальные валюты и локальные валюты. Там очень много разных — там есть муниципальные деньги, в общем, много всякого интересного. Теория денег безумно интересна в этом плане.
То есть выпускай, пожалуйста, любые. В этом плане они очень похожи. Ну, в России я бы, как бы, не сказал, что у нас есть там какой-то красный цвет. У нас скорее регулятор идёт последовательно, и он изучает лучшие практики с целью их дальнейшего внедрения.
И, например, ну, во-первых, здесь нужно отметить, что у нас есть уже, условно говоря, возможность выпускать наши локальные платёжные инструменты на блокчейне. То есть у нас есть цифровые финансовые активы, которые являются вот этими цифровыми правами. И эти цифровые права могут включать денежные требования.
То есть что это такое? Это я прихожу в блокчейн к одному из операторов, говорю: «Привет, оператор, хочу вот, ну, как бы, взять взаймы у кого-нибудь, пусть мне переведут денег», например, в самом простом случае. Оператор меня проверяет по 115-ФЗ, там, по своим требованиям проверяет на, там, риски банкротства и ещё что-нибудь, говорит: «Окей, заходи, Михаил Анатольевич». И я захожу и выпускаю так называемые цифровые финансовые активы — это цифровые права, их вид. Вид цифровых прав — это цифровой финансовый актив.
Александр Селезнёв: Сейчас, давай, на секунду, давай сейчас немножко это дадим бэкграунда слушателю, который не подготовлен. Я-то примерно понимаю, о чём ты говоришь. То есть ты говоришь, что вот, там, оператор блокчейна… Ты подразумеваешь вот это вот то, что у нас называется, там, ОИС? То есть это у нас… это, условно, там, какая у нас ситуация, там, в Российской Федерации сейчас, что у нас есть какое-то количество приватных блокчейнов, которые, там, не знаю, у Альфы свой, у Тинькова свой, я так понимаю?
Михаил Ионцев: Да, у Сбера свой.
Александр Селезнёв: У Сбера свой. И, как бы, ты можешь прийти туда как эмитент какого-либо цифрового права — цифрового права, то есть не иностранного цифрового права, а нашего родного цифрового права. Вот, и, значит, на этом приватном блокчейне произвести то, о чём ты сказал, — то есть что-то выпустить.
Михаил Ионцев: Да, при этом у нас к эмитентам требования, ну, как бы, они минимальные. То есть ты должен быть юрлицом или индивидуальным предпринимателем, а остальные требования фактически устанавливаются в 115-м законе. Ну, понятно, то есть не должен быть преступником, условно говоря. Вот, ну, и, там, какие-то минимальные требования могут операторы установить у себя. То есть там не будь банкротом, не имей там репутационных рисков каких-нибудь и ещё что-то.
И тогда получается, что вот даже GENIUS Act — он предъявляет более высокие требования к эмитентам, чем наш, потому что наш не говорит, что ты должен быть там, ну, обладать определённым обеспечением, заносить под эти цифровые права, должен обладать определёнными, там, требованиями, ну, там, к управлению — ничего этого нет. То есть ты должен быть просто юрлицом.
Вот, я могу создать юрлицо, зайти и выпустить цифровые права. И эти цифровые права у некоторых операторов можно выпускать в открытый блокчейн. То есть у нас есть часть, пункт 11.1… У нас есть часть 3 статьи 5 вот этого закона 259 о цифровых валютах и цифровых финансовых активах, который говорит, что оператор, если ты так желаешь, то вот цифровые финансовые активы, которые у тебя выпускаются в информационной системе, ты можешь обращать в открытых сетях. Ты можешь в эфире их обращать, в блокчейне биткоина обращать, в Tron, в Solana, где захочешь, хоть в Tron, вообще где угодно — пожалуйста, обращай, только определи порядок учёта, собственно говоря, таких цифровых прав, как ты их будешь учитывать. Вот, собственно говоря, и всё.
И более того, здесь я хочу подчеркнуть, что у нас цифровые финансовые активы, вот эти, их можно будет использовать — и уже, ну, как бы, уже можно — в качестве средства платежа во внешней торговой деятельности. Вот, то есть, как бы, и это уже большой плюс.
Поэтому я не вижу здесь, например, какого-то красного света, определённого. Я вижу скорее осторожный подход такой, который позволяет постепенно развивать, ну, собственно говоря, вот эту инфраструктуру, смотреть, как она используется, какие риски она вызывает или не вызывает, и постепенно там пересматривать или не пересматривать позицию. Но это такой скорее регулируемый эксперимент для меня.
Александр Селезнёв: Очень интересно. Слушай, у меня как раз было представление такое, что, в общем, для меня сейчас новостью, да, прозвучало то, что я могу, там, не знаю, взять своего ИП, пойти в какой-нибудь там, не знаю, в Сбер, в Альфу, и сказать: «Хочу выпустить, там, не знаю, ЦФА на рубль, на, там, не знаю, 10 миллионов». Вот, таким образом я как бы выпускаю облигации, но там, наверное, даже… Ну, то есть, наверное, там какой-то процент нужно поставить. Вот, и дальше я могу сказать: «А можно мне их ещё на публичную сеть эфириума выкинуть, чтобы люди могли друг с другом торговать?» Ну, там, торговать, в смысле, ну, просто обмениваться вот этим моим стейблкоином — я сейчас показываю кавычки — вот, стейблкоином на рубль на публичную сеть эфира. Вот.
Михаил Ионцев: Ну, фактически, да, получается, что как инвестиционный инструмент ты можешь его использовать, опять же, потому что запрет у нас только распространён на использование цифровых прав в качестве средства платежа. Вот, то есть до тех пор, пока он не используется в качестве средства платежа, там, за оплату товаров, работ, услуг — пожалуйста, ради бога. В качестве инвестиционного инструмента — то есть можно обменивать на деньги, можно на ценные бумаги бездокументарные, обменивать вообще на всё что угодно в этих открытых сетях.
Александр Селезнёв: Сейчас, погоди. А вот я вот хотел бы здесь вот понять, где пролегает вот эта грань. То есть с одной стороны, по этому закону ЦФА понятно, очевидно, что нельзя, условно, друг другу товары-услуги оплачивать. Вот, а с другой стороны, если, условно говоря, вот этот вот мой выпущенный стейблкоин на рубль, ну, или там просто, там, что-то, какую-то другую там вещь какую-нибудь с иностранным цифровым правом, я захочу поменять на биткоин, например, или на эфир, например, — это будет считаться, что я, ну, будет считаться, что я законно решаю или нет? Потому что вроде как, формально, я что-то купил, я вроде как…
Михаил Ионцев: Ну, здесь, опять же, то есть, как бы, вопрос очень хороший, потому что он нас, ну, как бы, заставляет задуматься о том, стоит ли признавать товаром, вот в этом запрете, цифровые валюты. Этот вопрос открытый, и мы вообще можем посмотреть, что каждый закон по-своему трактует вообще понятие товара.
То есть где-то под товаром понимается вообще всё что угодно. Есть законы, в которых товаром понимается иностранная валюта, например. Есть законы, в общем, по-разному совершенно соотносятся. И, ну, есть… в 259-м законе этот вопрос ещё не решён.
Относится ли именно к товару вот в этом запрете, который установлен частью, по-моему, 10-й статьи 4-й закона ЦФА… Вот, собственно говоря, можно ли использовать, собственно говоря, вот эти цифровые финансовые активы, выпущенные у нас и обращающиеся в открытых сетях, с целью покупки биткоина и эфира? То есть попадает ли там под понятие товара биткоин и эфир?
Это хороший классный вопрос, но, опять же, разные законы его для себя решают по-разному. На мой взгляд, взгляд эксперта, я бы не стал так расширительно толковать этот закон до тех пор, пока не будут исследованы все риски, потому что, в принципе, один из ключевых подходов вообще в регулировании финансовых технологий — это техническая нейтральность.
То есть мы должны устанавливать определённые ограничения, запреты, только исследовав пропорциональность рисков, которые возникают, связанные с ней. И, собственно говоря, регулирование, которое мы устанавливаем, оно должно быть направлено, в первую очередь, на купирование рисков, а не возможностей.
Александр Селезнёв: А правильно я понимаю, раз мы про это заговорили, что у меня появилось ощущение, что вот этот закон ЦФА — он же недавно его обновили, ну, как недавно, в этом году?
Михаил Ионцев: 18 августа 1924 года, или 8 августа 1924 года… Вот появилась такая возможность.
Александр Селезнёв: Год назад. Короче, у меня появилось ощущение, что вот сначала этот закон был очень рамочный — что там очень, ну, по сути, мало что было прописано конкретно. То есть там было написано, что вот там, не знаю, что-то запрещено — я уже забыл что, — и вот только сейчас добавили: «А что тебе будет, если ты будешь делать то, что запрещено?»
То есть у меня появилось ощущение, что в целом закон появляется как такой, как загрузка JPEG на заре интернета, — то есть что оно так сначала в общих чертах, потом больше, больше, больше деталей на это всё накидывается. И вот сейчас вот ты тоже сказал: «Вот я бы вот там порекомендовал подождать, пока там не будут изучены все риски».
То есть если я верно понимаю, то ты ожидаешь, что ещё больше будет деталей в этот закон приноситься, а пока что какие-то вещи просто непонятны? И если непонятно, то там, не знаю, это на свой страх и риск.
Михаил Ионцев: Ну, на самом деле, как бы, закон, вот опять же, он регулирует две разных сущности — цифровые валюты и цифровые права. Вот, собственно говоря, и рынок огромный цифровых финансовых активов — то есть можно посмотреть актуальную статистику. Там в официальных источниках разных их очень много. Вот, cfa.ru, например, есть. Банк России публикует периодически свою статистику, там разные ассоциации участников профессиональных на финансовом рынке публикуют.
И в принципе это очень амбициозный и динамично развивающийся рынок, потому что, по большому счёту, цифровые финансовые активы — это предоставили нам такую огромную гибкость в выпуске различного вида инструментов инвестирования, разных ценных бумаг, по большому счёту, бездокументарных, которые можно по-разному конструировать, очень по-разному там прописывать разные условия, экзотические инструменты всевозможные придумывать. И они в принципе развиваются.
Да, конечно, там 80 или 90 процентов этого рынка — это, по большому счёту, долговые инструменты, это облигации четырёх типов. Но всё остальное — это разные интересные нестандартные инструменты. Там и страховые инструменты есть, есть инструменты, связанные с пари разными. В общем-то, это заслуживает невероятного внимания.
И закон — я бы не сказал, что он был рамочный, потому что он в целом создал полноценную инфраструктуру, из которой, собственно говоря, не случилось бы того роста, который был до, собственно говоря, 24-го года. В том числе мы можем смотреть, что рост шёл по экспоненте, потому что там были предусмотрены все необходимые вещи.
Александр Селезнёв: Рост чего, извини, рост чего?
Михаил Ионцев: Рост рынка — количество выпусков, количество пользователей цифровых финансовых инструментов, количество эмитентов. То есть росло всё — количество операторов. Просто рынок рос. Создаётся сфера, она растёт экспоненциально, то есть очень быстро.
Александр Селезнёв: Ещё по кривой насыщения всё растёт, но мы ещё находимся в приятном экспоненциальном кусочке.
Михаил Ионцев: И здесь не могу сказать, что он в части цифровых прав был рамочным. В части цифровых валют, конечно, да, потому что он дал понятие цифровой валюты, которое, в принципе, оно, как бы, странное. То есть я его в своих статьях критикую. То есть можем отдельно обсудить, почему оно странное.
И он нас одарил 14-й статьёй, которая говорит о том, что вот есть понятие выпуска, есть организация выпуска, понятия есть организация обращения цифровой валюты. Там, в принципе, содержатся потенциальные, вот эти вот наименования лиц, которые потенциально будут, наверное, какую-то инфраструктуру развивать.
И там есть часть четвёртая, которая говорит: «Ну, отдельные законы ждите ещё, как регулировать цифровые валюты, пока что неясно». И это закон 21-го года. В принципе, на 21-й год это неплохой результат, скажем так, вот, в нашем пространстве правовом.
И потом вот есть часть пятая, которая налоговым резидентам Российской Федерации запрещает использовать в качестве средства платежа, опять же, цифровые валюты. И тут судебная практика говорит: «Ну, вообще-то, покупать-продавать цифровые валюты можно, это не запрещено. Можно обмениваться цифровыми валютами, можно использовать их в качестве инвестиции». И, в общем, это всё — пожалуйста, ради бога. Я могу в доверительное управление отдать цифровые валюты, я могу комиссионеру передать цифровые валюты, договор поручения заключить. В общем, всё что угодно, лишь бы не оплачивать товары, работы, услуги.
Окей, и есть ряд статей, которые тоже, как бы, за делом… Часть шестая, которая говорит о том, что мы должны декларировать каким-то образом те операции и цифровые валюты, которыми обладаем. В каком порядке это делать, пока что налоговая установила только для майнеров. Но, как бы, ожидаем развития этого законодательства. Тоже, в принципе, законопроект в Госдуме тоже болтыхается уже там с 21-го года, по-моему. Ну, достаточно давно.
И есть ряд статей, которые вот появились тоже в 18-м году, но они преимущественно связаны с майнингом, а именно то, что публичная оферта… Вот, часть, там восьмая, например, она говорит о том, что не только реклама цифровой валюты запрещена, но запрещена также и публичная оферта цифровой валюты. То есть я не могу просто предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту. Всегда только каким-то конкретным адресатам она должна быть направлена. То есть «парень, не хочешь купить цифровую валюту?» — это только одно конкретное лицо должно быть или определённая группа лиц. Вот, но точно не неограниченный круг лиц. Это вот как бы юридическая тонкость такая.
И в целом, то есть, как бы, то, что произошло в 18-м году… Там принципиальные изменения коснулись, там, помимо полировки тех инструментов, которые были, там, инфраструктуры какой-то — что-то доводилось там до лоска. Появилось вот эти две возможности: что выпускаем здесь в наших приватных, ну, или закрытых блокчейнах и обращаем в открытых блокчейнах. И появился инструмент: что-то из открытых блокчейнов в наши закрытые взять. То есть появился вот этот инструмент — построились, ну, да, регуляторные условия для этого были созданы правовые.
И ещё там отдельно там появились всякие диковинки типа клубных ЦФА или адресных ЦФА, то есть когда я могу сказать, что вот эти ЦФА вправе приобретать только там совет директоров такой-то компании — и всё. То есть, ну, появились какие-то уже интересные разные новые инструменты, пожалуйста.
Александр Селезнёв: А есть вот какие-то рабочие примеры таких сущностей, которые, значит, мы вынесли из приватных блокчейнов, регулируемых, на публичные и нерегулируемые, и обратно?
Михаил Ионцев: Ну, смотри, здесь нужно… Здесь подход очень простой. У нас все правила, собственно говоря, вот этого требования — чтобы если ты выпустил в закрытом блокчейне у какого-нибудь, там, условно, оператора там — Альфа, Сбер, ВТБ Трейдинг или кто угодно, дам адрег…А в общем-то, если ты выпустил здесь, но обращаешь там, — это должно быть у тебя написано в правилах.
Все правила опубликованы на сайте Банка России. Как их найти? Вы заходите на сайт Банка России, смотрите там вкладку «Проверить участника финансового рынка», выбираете тип деятельности оператора информационной системы, и у вас высвечивается перечень из всех операторов, которые существуют в настоящий момент. Проваливаетесь в любого, какого хотите, и смотрите: есть ли у него в правилах такая возможность? То есть есть ли у него возможность выпускать в его системе и обращать в иностранных?
И, смотри, на мой взгляд, я вот давно правила так конкретно не анализировал — ну, типа месяца два, наверное, за них не брался. Вот, но у Альфа-Банка такая возможность появилась. Они предусмотрели такой вид смарт-контрактов, насколько я понимаю. По крайней мере, вот я как пользователь это понял, что да, действительно, они это предусмотрели.
И сначала оператор это предусмотрит, а потом уже придут эмитенты, которые этим будут пользоваться. И, опять же, эмитенты — все решения должны быть опубликованы не только на сайте самого оператора, но и на сайте эмитента. И есть cfa.ru — такой сайт, где все выпуски публикуются. В принципе, там можно ознакомиться: используют ли какой-то инструмент вот в таких целях уже или нет.
Но в целом, я думаю, здесь сами операторы только могут сказать, если это не является коммерческой тайной, — возможность использования вот таких инструментов. Начинайте вот в этой части с анализа правил.
Теперь, если говорить про иностранные цифровые права, здесь нужно упомянуть, что в мае или в июне этого года вышло указание Банка России, которое указало, какие требования иностранные цифровые права должны соответствовать, чтобы их можно было допустить к нам — как этот допуск осуществляется, он описывается в статье 5 — в наше обращение на приватных наших блокчейнах.
Александр Селезнёв: Да, да, да, на наших приватных блокчейнах.
Михаил Ионцев: Это тоже статья 5, закон ЦФА, части 3.1 и так далее, 3.2, 3.3. Они говорят о том, что оператор — ты своим внутренним документом определяешь порядок допуска, то есть какие-то требования, порядок, там, проверку какую-то и тому подобное. Вот полностью отдано на откуп операторам. То есть оператор — ты сам решаешь. При этом это такой публичный документ… Ну, этот документ даже не должны публиковать или согласовывать с Банком России. То есть просто сам оператор сам по себе решает: вот что он… Да, вот такие-то иностранные цифровые права допускает к обращению в своих информационных системах в качестве цифровых финансовых активов.
То есть иностранное цифровое право превращается в цифровое право России по щелчку оператора. То есть это должно быть решение оператора такое: как он это допускать будет? Будет кастодиальная у него будет модель, некастодиальная? Закон ничего не предписывает. То есть здесь дана полная свобода операторам. То есть оператор может, условно говоря, накупить себе там из открытых сетей любые иностранные цифровые права, полностью управлять адресами-идентификаторами — вот то, что мы обсуждали в начале — и не предоставлять непосредственно пользователям возможность совершения операции по адресам-идентификаторам. Может сделать по-другому. То есть, ну, как бы, может некастодиальную модель предусмотреть. Это уже тоже на усмотрение оператора, как он это обращение будет организовывать.
Александр Селезнёв: В принципе, у меня вот появился вопрос, наверное, такой метавопрос. Откуда… Я просто сейчас вот, когда мы с тобой общаемся, мне постоянно нужно как бы переводить вот то, что ты говоришь, какие-то понятия, которые ты упоминаешь, на понятный мне язык. Что вот у нас есть, значит, куча приватных блокчейнов, которые там, значит… Список этих приватных блокчейнов, я так понимаю, есть просто на сайте ЦБ РФ. Дальше, значит, на каждом из этих приватных блокчейнов отдельно — то есть, вот я, если хочу выпустить какой-то ЦФА, допустим, я должен отдельно к каждой приходить вот из этих приватных блокчейнов и отдельно, независимо друг от друга, вот эту ЦФА выпускать. Вот. И этот список этих ЦФА есть тоже на специальном официальном сайте, там, cfa.ru ты упомянул, кажется?
Михаил Ионцев: Ну, он как бы не… Ну, это инициатива чья-то, я так понимаю.
Александр Селезнёв: Это не официально, это не то, что регулятор говорит, ты должен… Всё, я понял.
Михаил Ионцев: Нет, нет, нет, закон предписывает только на сайте оператора публиковать решение о выпуске и на сайте самого эмитента. А это вот просто агрегатор, который кто-то организовал, в целом он достаточно качественный.
Александр Селезнёв: Всё, я понял. Дальше, у нас при этом есть потенциальная связка с публичным блокчейном вот этих наших приватных блокчейнов. Вот, у меня вопрос, знаешь, для меня, вот для человека как бы технического, это выглядит как… по сути, вот то, о чём ты говорил изначально, — первая модель регуляции, когда у тебя есть просто кастодиальный какой-то провайдер услуг, который тебе, там, условно, цифры какие-то рисует от твоего имени, там, условно говоря, на публичном блокчейне, всё делает. Вот, для меня это выглядит как некоторое переусложнение. Зачем нам вот эти приватные блокчейны, где мы всё это выпускаем, если они всё равно приватные? И как бы почему бы не сделать проще — что вот я прихожу в Сбер, Сбер, условно, просто в базе данных это всё у себя там выпускает, вот, и там, если я хороший мальчик, и там, не знаю, там, как-то хорошо там, ну, там, compliance прохожу — я, если честно, не знаю, как в России это всё называется, — он мне даёт возможность, там, не знаю, ещё и там, не знаю, биткоина на публичной сети купить. Откуда это взялась, вот эта вот достаточно сложная система сущности, вот какая логика за ней стоит?
Михаил Ионцев: Ну, смотри, по поводу биткоина, опять же, это цифровые валюты, и их регулирование оборотов принципиально отличается от того, что есть цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами. Поэтому надо посмотреть, конечно, правила Сбера, раз уж он попался здесь нам под раздачу. Я не помню, можно у них или нет, но они могут предусмотреть в своих правилах — они тоже являются оператором — что ты можешь выпустить у них какое-то право, и оно будет обращаться там в открытых информационных системах, в любых, пожалуйста. Вот, то есть Сбер, в принципе, такое тебе может предоставить. Он также проводит идентификацию, предоставляет тебе такую же возможность и всё, и служит, ну, словно говоря, там уже какую он выберет для себя модель — кастодиальную, некастодиальную, как ты будешь этим распоряжаться. Отдельных предписаний для этого в законе нет. Там есть, как бы, разные исследования юридические на эту тему — за одну, за другую модель, — но принципиально на практике она пока что ещё, ну, не устоялась. То есть здесь максимально широкое разнообразие возможностей есть.
А в отношении цифровых валют — так как с ними связаны, условно говоря, другие риски, и это покупка чего-то там, вот этой цифровой валюты в открытых сетях, — то здесь нужно проводить там цифровой compliance, другие риски совершенно. Там нет эмитента, к которому можно прийти, потребовать чего-то. То есть, опять же, в чём плюс, условно говоря, цифрового права — то, что ты можешь достучаться до эмитента и сказать: «Эй-эй-эй, давай-ка мне тут меняй, вот так вот должно быть». С цифровой валютой ты никому не придёшь, на свой страх и риск, как говорится. Но и с этим жить можно, условно говоря. Я уверен, что, как бы, по крайней мере, вот практики, которые развиваются в мире, они постепенно тоже регулируют цифровые валюты, там, создают для них инфраструктуру. Вот, какой она будет, это вопрос. Есть вот разные подходы и разные пути, которые мы с тобой вначале обсуждали. Но вот здесь, опять же, юридически важно разграничивать иностранные цифровые права и цифровую валюту — что цифровую валюту нельзя допустить к обращению в России через оператора такого сейчас, только иностранные цифровые права.
Александр Селезнёв: Хорошо. Сейчас нужно это всем мозгом проживать. Я задам следующий вопрос. Какая логика стоит за тем, что в РФ нелегальны криптобиржи? То есть, может быть, ты уже на этот вопрос мне ответил предыдущим ответом?
Михаил Ионцев: Ну, мне, как бы, я думаю, что логика такая же, как и в тех странах, в которых, там, до сих пор нет какого-то регулирования, условно говоря. Потому что, ну, что значит «нелегальные криптобиржи»? Можно по-разному этот вопрос оценивать, там, как юристы, мы раскладываем всегда гражданские риски, там, публичные риски, уголовные риски и так далее, и, в принципе, глубина анализа — она зависит от определённой квалификации, там, и анализа практики, которые существуют.
Вот, в принципе, во многих странах, там, регуляторы не спешат с разработкой регулирования именно из-за технологически нейтрального подхода. То есть, какие-то риски купированы, условно говоря, и идёт анализ моделей, подходов, которые можно выработать, условно говоря, и использовать, как бы, преимущество этих, там, бирж в качестве инвестиционного инструмента.
И здесь я хочу отметить, что Банк России — он делал пресс-релиз на своём сайте о том, что с правительством, ну, как бы, обсуждаются механизмы и подходы к использованию цифровых валют в качестве средства инвестиции. То есть, и более того, Банк России выпустил 86-е информационное письмо, в котором разрешил беспоставочные, расчётные всякие финансовые инструменты и цифровые финансовые активы выпускать, которые обладают привязкой к цифровой валюте.
Вот, то есть здесь, видишь, тоже есть определённые движения. И если мы рассматриваем цифровую валюту — у неё тоже есть аспект, там, цифровая валюта в качестве средства платежа, цифровая валюта в качестве инвестиции, — конечно, в состав паевых инвестиционных фондов цифровая валюта входить не может, это есть напрямую запрет, который есть в указании Банка России, — вот, но в целом другие беспоставочные инструменты, они могут быть. Например, ценная бумага, стоимость которой привязана к цифровой валюте, пожалуйста, такое может быть.
Там есть даже два договора, по-моему, несколько договоров, существует инвестиционного страхования жизни, которые тоже обладают привязкой к цифровой валюте, и это тоже в России, это сейчас происходит. Там есть инструменты, которые выпускаются на Мосбирже, уже привязанные к цифровой валюте. То есть здесь идёт какое-то постепенное развитие, определённое.
Но, как бы, построение полноценной инфраструктуры — оно требует детального анализа, который на самом деле, ну, вот там, СФС, БМР, они завершены только, ну, на 70% за…
Александр Селезнёв: Что это такое?
Михаил Ионцев: СФС — Совет по финансовой стабильности. То есть, вот эти организации, которые, как бы, ну, обслуживают группу G20 и созданы во многом благодаря ей, они ещё не до конца проанализировали все модели. А может быть, нужно создавать не CEX-ы, какие-то, ну, как бы, а может быть, нам просто, вот, поставщиков услуг в этой сфере регулировать — тех, которые создают инфраструктуру, тех, которые, там, аудируют смарт-контракты и так далее. То есть, на самом деле, золотого пути какого-то ещё не выверено, он ещё неопределён.
Поэтому я, вот, например, в регулировании каких-то финансовых технологий, честно, придерживаюсь такого спокойного подхода лично, моё экспертное мнение, что лучше не спешить с установлением какого-то регулирования, чем наломать дров, который потом будет очень тяжело переложить и исправить.
Вот, поэтому, ну, как бы, может быть, действительно, там, 14 статья — она не удовлетворяет те запросы, которые существуют, там, у рынка, у участников рынка, она не совсем снимает все опасения, которые есть у регулятора, — но это такой статус-кво, который сейчас, ну, как бы, всех удовлетворяет относительно.
Но понятно, что развитие технологий, преимущества, которые они дают, инструменты купирования рисков, связанных с цифровыми валютами, — они в целом, ну, как бы, позволяют выработать какой-то более взвешенный подход. И во всех странах, у которых до сих пор нет регулирования, я уверен, оно постепенно появится. И даже в США я хочу отметить, что у них только стейблкоины регулируются, сами цифровые валюты до сих пор ещё никак не регулируются. То есть там эти поставщики услуг — они тоже как-то чего-то, но отдельного закона там тоже нет. В штатах, есть что-то, но вообще федерального тоже нет.
В принципе, здесь в фарватере таит Франция со своим отдельным регулированием цифровых валют и Германия со своим отдельным регулированием цифровых валют. Вот две юрисдикции, которые создали полноценное регулирование. Все остальные ещё, как бы, в раздумьях находятся, как лучше это делать.
Александр Селезнёв: Вот сейчас ты упомянул штаты, но в штатах же есть биржа Coinbase, где люди могут заходить, проходить KYC, KYB даже, и легально торговать цифровыми валютами. Это не то, о чём мы говорим?
Михаил Ионцев: Смотри, да, конечно, это то, о чём мы говорим, но здесь нужно, опять же, анализировать. Я говорил сейчас про общефедеральное законодательство, и я не исключу… Я не являюсь специалистом по праву США или Великобритании. То есть только я могу о факте наличия каких-то норм говорить, но об их содержании тоже очень сложно судить. Я точно могу сказать, что общефедерального законодательства у них нет в этой сфере.
Как же это… Служба по товарным биржам, CFTC, по-моему, она называется у них, — они очень долго спорили и спорят до сих пор, как у них разграничивается компетенция, кто что регулирует, какие утилитарные токены, куда как относить и так далее. Цифровые валюты в том числе. То есть это открытый вопрос сейчас на федеральном уровне. Я не удивлюсь, если на уровне отдельного штата, конечно, найдено какое-то решение и разработано регулирование.
Потому что в штатах, в Соединённых Штатах Америки, отдельный штат может принимать для себя своё корпоративное законодательство. Штат Делавэр славится своим корпоративным регулированием, многие там регистрируются. Он может там… Право Луизианы, например, оно строится на Кодексе Наполеона, например, потому что это когда-то было французской колонией в своё время, и только потом она перешла, а правовая традиция осталась.
То есть и в США всё не так однозначно, как может казаться на первый взгляд. Что да, ну, в Техасе, например, биткоины используют в качестве средства платежа, потому что есть определённое локальное законодательство. Где-то начинается регулирование, например, DAO, по-моему, в двух штатах — Вайоминг и Милуоки, — но в целом общего подхода на федеральном уровне и какого-то подхода, который вырабатывается в федеральной власти, нет.
Я просто напомню, что до GENIUS Act рассматривался также в штатах закон FIT 21, который вводил регулирование децентрализованных финансов, децентрализованной инфраструктуры и так далее, но этот закон не прошёл. На него наложили вето, и, как бы, мы понимаем, что это говорит о наличии дискуссии в этой сфере.
И, опять же, вот те вопросы, которые мы с тобой сегодня обсуждаем, — а как лучше регулировать, — ну, как бы, сегодня нам кажется, вот, например, так, опираясь на опыт Совета по финансовой стабильности, Банка международных расчётов и там… ассоциации экономического сотрудничества… но, ой, Организации экономического сотрудничества, — но это может измениться. И, как бы, опять же, в регулировании финансовых технологий спешка — она ни к чему. То есть дискуссия, на самом деле, продолжается во многих государствах, в том числе в мировых экономиках крупнейших.
Александр Селезнёв: Такой вопрос прямой. Пользоваться токеном А7А5 легально в России или нет?
Михаил Ионцев: Вот смотри, здесь, как бы, вообще юристы за такие деньги, за такие вопросы берут деньги, оказывая консультации, но я могу только преподавательской и научной деятельностью заниматься. И, как бы, в качестве преподавателя я могу только сказать, что задачка юридическая поставлена некорректно, потому что непонятно, что значит «пользоваться». Нужно смотреть, где он выпущен, нужно смотреть документацию об эмиссии, ну, как бы, за что, там, и так далее, расплачиваться.
Ну, на мой первый взгляд, такой токен может, коль у него есть эмитент, быть признан иностранным цифровым правом.
Александр Селезнёв: Но в Кыргызстане пускается, вроде.
Михаил Ионцев: И я хочу отметить, что, там, иностранные цифровые права — они могут быть допущены к обращению. То есть, если ОИС скажет, что вот я допускаю токен А7А5 в свою информационную систему, то, пожалуйста, мы можем им пользоваться в качестве инвестиционного инструмента, но в качестве средства платежа между собой мы его использовать не можем.
При этом, если я буду участником ВЭД, и мне нужно будет оплатить какой-то контракт, а ты будешь, там, например, моим иностранным контрагентом и готовым принять, то, пожалуйста, такое использование возможно.
Вот. То есть, вот такой ответ.
И опять же, я хочу отметить, что, ещё раз подчеркнуть жирным, что статья 14, которая посвящена только цифровым валютам, — она не распространяется на регулирование иностранных цифровых прав. Иностранное цифровое право — это просто какое-то имущество, вот, которое может быть, и может обращаться в России как цифровой финансовый актив, вот и всё.
Александр Селезнёв: Давай вот этот вопрос уточним. Ты упомянул, что ВЭД — это внешнеэкономическая деятельность, что в ВЭД возможно что-то, что невозможно, условно говоря, для внутренней экономической деятельности. То есть, можно использовать объект иностранных цифровых прав — на нашем языке, стейблы — для того, чтобы вести внешнеэкономическую деятельность. Как это вообще сейчас регулируется? Это вот прямо вот где, где про это почитать людям, которые заинтересованы в том, чтобы свою внешнеэкономическую деятельность вести? Вот, есть дизайнер. Вот тот дизайнер хочет свой дизайн на аутсорс продавать, какой-нибудь IP-шник. Вот как ему, значит, в иностранных цифровых правах платёж принять? Это же ВЭД или нет?
Михаил Ионцев: Да, да, да, конечно. Ну, то есть, здесь я так скажу, что, во-первых, конечно, нужно почитать 259-й закон, это закон о ЦФА, и 173-й закон — это закон о валютном регулировании и валютном контроле.
И в марте 24-го года, по-моему, 13 марта был принят закон, который, собственно говоря, и допустил возможность использования цифровых финансовых активов в качестве средств платежа по внешнеторговым договорам. Вот, и были приняты все необходимые там оговорки, связанные с валютным регулированием. То есть были определены цифровые финансовые активы, которые являются валютными ценностями, которые не являются валютными ценностями. Валютные операции с цифровыми финансовыми активами были разрешены, и были описаны допустимые валютные операции между резидентами, собственно говоря, с цифровыми финансовыми активами.
Это вот первое. И опять же, про ИЦП, здесь ключевое является то, что ИЦП, в принципе, можно использовать в качестве средств платежа по внешнеторговым договорам с налоговым режимом ЦФА только когда они будут квалифицированы в качестве ЦФА определённым оператором информационной системы. То есть, если оператор информационной системы какое-то иностранное цифровое право признает в качестве ЦФА, то, да, вы можете использовать весь инструментарий, который предусмотрен для ЦФА в сфере валютного регулирования, в сфере налогового обложения и так далее. То есть, в принципе, перед вами открываются все двери.
Александр Селезнёв: Вообще это, ну, просто в идеале вот это открытие всех дверей выглядело бы, конечно, замечательно, особенно в контексте текущих событий и вообще.
Михаил Ионцев: Ну, да. Ожидаем, собственно говоря, операторов, когда они начнут осуществлять такую квалификацию иностранных цифровых прав в качестве ЦФА, какие они допустят, какие нет и так далее.
Александр Селезнёв: Окей. Мы сейчас говорили про закон о ЦФА, 259, кажется. Я, кстати, сейчас в параллель гуглил, Google мне выдал, что 259-я статья УК — это уничтожение какого-то средства… как это называется, уничтожение среды обитания каких-то животных.
Михаил Ионцев: Вообще, на самом деле, есть ещё 259-й закон о краудфандинге, который предусматривает возможность создания выпуска других цифровых прав — это утилитарные цифровые права. Так повезло, что на год раньше под этим же номером был принят совершенно другой закон о другом, но таких утилитарных цифровых прав, там один экспериментальный выпуск был на 70 тысяч рублей на там требование золота, и в принципе больше их не было, потому что там крайне невыгодный налоговый режим, вот и всё.
Александр Селезнёв: Вот, касательно закона, кто разрабатывает этот закон? Ну, сначала законопроект, понятное дело. Есть уже, наверное, какая-то рабочая группа, которая там сидит, — это люди, наверное, из разных аффилиаций, которые, значит, обсуждают законопроект, что-то в него добавляют до того, как он ещё пошёл на обсуждение в нижнюю, верхнюю палаты парламента.
Михаил Ионцев: Ой, ну, смотри, здесь, конечно, у нас просто этот процесс написан, в принципе, в Конституции, как принимаются, разрабатываются законы. У нас органом, который отвечает за финансовую политику, за политику на финансовом рынке, является Министерство финансов, и там вот господин Моисеев, например, он и член Совета по финансовой стабильности, который по своей инициативе как бы приостановил своё участие, но тем не менее.
И, в принципе, у нас, как бы, именно правительство обладает законодательной инициативой в том числе. Но в этой сфере инициатива может исходить как и самих депутатов, там, в принципе, от любого органа, который там обладает законодательной инициативой — от органа власти, там, от президента может исходить она. И, конечно, как правило, законы, особенно такие, ну вот, можно их оценить на сайте там Госдумы, разные законы, просто по ключевым словам, можете смотреть — цифровые валюты, криптовалюты, цифровые финансовые активы, цифровые права. Там совершенно разные есть инициаторы у них, разные лица, там разные обсуждения проходят.
И Банк России, я отмечу, он не обладает правом законодательной инициативы. Вот, то есть мы можем только экспертно оценить, когда нас привлекают к регулированию. Но закон 86 о Банке России — он говорит о том, что нормативные акты, которые разрабатываются в нашей сфере, они должны обязательно с нами обсуждаться. На мой взгляд, это безумно… вернее, на мой взгляд, это, конечно же, очень корректно, потому что всё-таки задача поддержания финансовой стабильности, финансовой устойчивости, развития финансового рынка — она лежит на Банке России и возложена на него законом. И поэтому, конечно, законы, связанные с цифровыми правами, они проходят обсуждения с Банком России тоже на разных площадках, вот, их можно в публичной сфере очень много увидеть. По каким-то законам создаются рабочие группы, по каким-то нет. То есть, но, как правило, обсуждение достаточно широкое проходит.
Я ещё хочу отметить, что в целом у Банка России тоже есть такое, что нормативные акты, которые он разрабатывает, — есть определённое положение о разработке нормативных актов Банком России, оно тоже публично находится в открытых сетях, в общем, все с ним могут ознакомиться — 602-П, — и там все акты, все проекты должны пройти, собственно говоря, публичную оценку, оценка регулирующего воздействия — ОРВ. И вы можете, там, как бы, ознакомиться с этими актами, они в публичном доступе находятся, и написать свою критику на них, и, собственно говоря, с вами, как бы, будет… вы тоже можете принимать участие в этом обсуждении. То есть, нормативные акты, которые Банк России разрабатывает, их можно обсуждать, и я более скажу, их нужно обсуждать. То есть, кто-кто, Банк России достаточно открыт в, ну, скажем так, в своей проработке различных инициатив во всех сферах, где у него есть компетенция на принятие нормативных актов.
А законы здесь тоже знают… ну, как бы, какие-то законы, там, инициируются президентом, опять же, только скажу, какие-то депутатами и так далее. Ну, всегда, Банк России принимает обсуждение в силу, опять же, 86-го закона.
Александр Селезнёв: Ну, Банк России — он же ЦБ РФ. У него есть какой-то там право вето сказать: «Нет, вот это вот вообще, это вот нельзя делать», — или просто к нему все прислушиваются настолько внимательно, что это оно и не нужно?
Михаил Ионцев: Ну, это, знаешь, то есть, конечно, права вето никакого нет, есть просто возможность высказать свою позицию, которая будет в дальнейшем обсуждаться, как и на любых переговорах. То есть, те, у кого есть там, жена, девушка, муж, там, кошка, друзья, — вам всегда приходится договариваться, и, собственно говоря, здесь также в публичном обсуждении и непубличном обсуждении законов, когда проходит, — тут нужно всегда договариваться. Вот, и, конечно же, какие-то там договорённости… какие-то аргументы слышны, какие-то нет, какие-то позиции меняются. То есть, здесь тоже очень по-разному идёт обсуждение всегда.
Александр Селезнёв: Я понял. Ясно. Что мы заговорили про Банк России, давай вот очень коротко вот осветим на всякий случай, какие у него, наверное, цели, KPI, вот какие цели преследует, ну, специфические для него Банк России, когда он такого рода законопроекты обсуждает.
Михаил Ионцев: Ну, здесь вопрос, какого рода законопроекты, но вообще, в любой своей деятельности Банк России руководствуется теми целями, которые поставил ему закон 86-й, и, ну, то есть, это развитие финансового рынка и поддержание финансовой стабильности глобально, — ну, там есть и другие цели, вы можете с ними ознакомиться, — но, мне кажется, в нашей дискуссии вот эти две наиболее релевантны. Потому что, действительно, как бы, с одной стороны, финансовые технологии — они всегда дают определённые возможности, и это позволяет развивать финансовый рынок.
И, собственно говоря, мы видим, как с развитием рынка цифровых прав, происходит определённое развитие, какое оно бурное, амбициозное, я не удивлюсь, если с цифровыми валютами будет похожий подход. Там, в принципе, это огромная сфера, которую, если обложить налогами, ого-го, как можно хорошего налогов собрать, например.
Но, с другой стороны, Банк России должен следить и за финансовой стабильностью и поддерживать, как бы, вот в этом уравнении спроса денег, спрос на отечественную валюту, стабильность рубля и многие-многие другие риски финансовой стабильности. Поэтому я так много сегодня на Совет по финансовой стабильности ссылаюсь, потому что этот орган, ну, как бы, международная организация, она предельно взвешенную позицию, на мой взгляд, высказывает в части как возможностей, так и рисков, как и регулирования, так и купирования рисков, как создание инфраструктуры, так и, собственно говоря, там, ограничений каких-то, которые разумно установить.
Вот, поэтому, вот, ну, как бы, вот эти две цели — они, как бы, в сфере именно регулирования финансовых технологий наиболее актуальны.
И вот доклады, которые там выпускались, — в 22-м году, например, в феврале вышел доклад о рисках цифровых валют, — и мы можем увидеть, какую огромную дорогу прошёл Банк России в этом вопросе, когда в 24-м году летом вышел доклад о стейблкоинах. Какого качества этот доклад был, что там приведены очень такие, ну, как бы, такая стереометрия хорошая дана, прямо вот, ну, он в каком-то смысле даже на научный тянет, потому что Банк России предельно подробно изучил вопрос, там, стейблкоинов и их регулирование.
И, как бы, в дальнейшем, появился вот этот закон о, там, иностранных цифровых правах, — как их допускать и обращать, как наши цифровые права выпускать в открытые сети.
В принципе, вот, пожалуйста. И в других сферах, по искусственному интеллекту, Банк России тоже, в принципе, упомянул, что, да, искусственный интеллект — это технология, у которой есть риски и возможности, и мы сейчас придерживаемся в этой сфере технологически нейтрального подхода. То есть давайте мы не будем спешить пока что никак регулировать его, кроме, там, Кодекса этики, который недавно вышел, но мы посмотрим, как эта технология — она какие риски создаёт и какие возможности, и давайте мы не будем купировать возможности посредством каких-то, там, ограничений.
К тому же сейчас, там, инструментарий управления рисками у кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, профессиональных участников рынка различных — они достаточно развиты, эти системы, и как будто они пока что покрываются.
Ну вот, то есть это для любых финансовых технологий эти две цели, они характерны, и они отражаются часто, там, в докладах для публичного обсуждения, в аналитических докладах, там, Банка России, и явно эти две линии можно проследить.
Ну ещё вот, я здесь хочу, знаешь, отметить, что раз мы говорим о таких программных вещах, глобальных, там, которые выполняет, функция регулятора, — есть «Основные направления развития финансового рынка до 30-го года», документ, с которым я рекомендую всем ознакомиться, он очень интересный, и «Основные направления развития финансовых технологий до 27-го года» — это тоже невероятно интересные документы. Мы можем видеть, в каких направлениях Банк России идёт в сфере, там, поддержки развития финансовых технологий. Вот, потому что, конечно, эту цель тоже нужно соблюдать, и, на мой взгляд, Банк России достаточно последователен здесь в своих действиях.
Александр Селезнёв: Окей, давай про CBDC поговорим. Что такое CBDC и цифровой рубль в частности? И верно ли, что цифровой рубль по состоянию на сейчас к блокчейну отношения не имеет?
Михаил Ионцев: Здесь смотри так, что здесь я могу сказать, что CBDC вообще — это Central Bank Digital Currency, или цифровая валюта центрального банка, ЦВЦБ у нас это называется, — и здесь корректны все термины, потому что валюта — это то, у чего есть публичный эмитент, вспоминаем, то, о чём мы говорили час назад, — и у всех ЦВЦБ есть публичный эмитент, собственно говоря. И где он может и как использоваться, здесь уже невероятно широкий спектр возможностей открывается. Опять же, Банк международных расчётов опубликовал доклад в 2024 году о правовых аспектах ЦВЦБ, какие модели могут быть. Там невероятное разнообразие. То есть вот как про токены говорить, которые вот есть там, условно говоря, иностранные цифровые права, разнообразие стейблкоинов или цифровых валют нативных, — оно же дикое, и вот такое же дикое разнообразие и в сфере ЦВЦБ, это огромный спектр.
И здесь я хочу подчеркнуть, что есть такой сайт CBDC Tracker, на котором можно отследить, где какие инициативы рассматриваются, где какие модели внедряются, с какими-то новостями последними ознакомиться. Всем рекомендую тоже свой докладочки добавить, что вот сайт СФС, сайт БМР, сайт, собственно говоря, CBDC Tracker, ну и соответственно сайт Банка России, в общем, cfa.ru и так далее.
Возвращаясь к CBDC, первое, слово «цифровое», что означает — вот, опять же, в нашей доктрине, если мы посмотрим, и в концепции цифрового рубля, которая выходила, там рассматривались разные модели, и в том числе модель token-based, так называемая, когда можно непосредственно распоряжаться вот этим вот токеном. Это, опять же, вспоминаем, что общее между цифровой валютой и цифровым правом — то, что ими можно распоряжаться непосредственно. Но, то есть это не какой-то счёт в банке, это не что такое, это вот токен, им можно распоряжаться непосредственно. Соответственно, цифровыми валютами можно распоряжаться непосредственно, поэтому они цифровые, цифровыми правами можно распоряжаться непосредственно, поэтому они цифровые, и цифровыми валютами центральных банков можно распоряжаться непосредственно, но если они token-based.
То есть есть такая модель, и такая модель, например, внедрена в Индии, и там в законе о цифровой rupee, который ввёл изменения в закон о Банке Индии, там закон о наличном денежном обращении, там фактически, с экономической точки зрения, вот цифровая rupee — она вытесняет обращение наличных денег, потому что мы вспоминаем, что цифровая валюта вообще, вот та, которую мы говорили в первом часу, она ведёт себя как вещь, как наличные деньги. Ну и, естественно, если её выпускает центральный банк, то, конечно, она в обороте ведёт себя как цифровая наличка, по большому счёту, и поэтому некоторые виды ЦВЦБ называют цифровой наличностью. Вот.
Александр Селезнёв: Сейчас, давай я попробую прояснить. Ты говоришь, что можно распоряжаться, что если он token-based, окей, потом разберёмся, что это значит, это значит, что им можно распоряжаться непосредственно. Однако до этого мы обсуждали, что… Давай по-другому задам вопрос. Ты говоришь, что им можно распоряжаться непосредственно, но что значит «непосредственно»? Всё равно же у меня посылается запрос в какую-то базу данных в Центробанке соответствующей страны, чтобы произошёл пересчёт, чтобы с моего аккаунта снялось, не знаю, 10 рупий, и на аккаунт Раджиша Кумара и Вишну Прасада закинулся 10 рупий? Но это же, в моём представлении, это же не непосредственно, это как бы у меня…
Михаил Ионцев: Это, Саша, ты задал суперкрутой вопрос, и здесь нужно обратиться к ГК. Гражданский кодекс, вот наш, почему я оттуда, я же оттуда терминологию беру. То есть там статья 141.1, там пункт 1, которая говорит о том, что распоряжение цифровыми правами осуществляется без обращения к третьему лицу. И это взяли из статьи, которая посвящена бездокументарным ценным бумагам, где, собственно, распоряжение бездокументарными ценными бумагами осуществляется посредством обращения к лицу, ведущему учёт таких централизованных бездокументарных ценных бумаг, — ну, к депозитарию условно, ну, или реестродержателю.
Совершенно верно, а чтобы распорядиться, например, цифровым правом, я не обращаюсь, условно говоря, я не говорю: «Саша, пожалуйста, переведи вот это цифровое право с вот этого счёта на вот этот», — я так не говорю, я сам это делаю. То есть ты, мне предоставляешь инфраструктуру, условно говоря, но я сам это делаю. То есть твоей воли — вот что значит «непосредственно» — твоей воли там может не быть. Я могу нанять кого-нибудь, я могу там тебе отдать всё и сказать: «Вот управляй мне как хочешь, мне главная прибыль давай», — это будет доверительное управление, и ты будешь посредником.
Но принципиальным здесь является то, что я могу и сам без привлечения какого-либо другого лица. То есть мне достаточно только моей воли, чтобы распорядиться чем-то. Чтобы распорядиться безналом, мне нужна моя воля и воля банка. То есть я ему даю поручение по счёту, и банк своей волей исполняет это поручение. Понимаешь? А может не исполнить. А там ещё всякие риски такие могут быть и так далее.
То же самое с бездокументарными ценными бумагами. Я даю своей волей поручение на распоряжение по счёту, и депозитарий по счёту депо своей волей осуществляет это распоряжение.
Если мы говорим, теперь вернёмся к цифровым валютам центральных банков, — если она token-based, то если я распоряжаюсь только своей волей, — Центральный банк Индии предоставляет инфраструктуру, ну он Резервный банк Индии называется, он предоставляет инфраструктуру определённую, информационную систему, мы в неё заходим, — но уже я сам не по счёту даю распоряжение, а сам просто токен тебе на твой адрес-идентификатора закидываю, а ты там другой пользователь. Конечно, банк может видеть любые операции, это его информационная система, там всё открыто, но это вопрос контроля уже, а не наличие его воли. Распоряжусь я всё равно сам. Он не может мне заблокировать… Нет, ну конечно какие-то вещи он может заблокировать, но понятно, что он не просто всё там берёт и блокирует.
Здесь принципиальным является то, что это не будет поручение по счёту. Вот это как раз отличие от account-based моделей, которые, собственно говоря, они используют технологию блокчейн, но по-другому. Они её используют для более надёжного учёта какого-то и так далее. И есть две модели вот: опять же, я вернусь, CBDC token-based и CBDC account-based.
И опять же, я хочу вас вернуть вот к докладу, который более подробно во всех деталях обсуждает… этот доклад Банка международных расчётов, где он обсуждает правовые аспекты CBDC. И здесь мы можем сказать, что если мы говорим про token-based, то такая цифровая валюта центрального банка ведёт себя как наличка в обороте. Это наличные деньги фактически. Вы ими распоряжаетесь непосредственно, как наличкой, ну с использованием информационной инфраструктуры Центрального банка Индии или той страны, которая такую валюту выпускает. И в концепции цифрового рубля я хочу отметить, такая модель тоже обсуждалась. Вот.
Как бы, теперь вторая модель, account-based, — это когда, условно говоря, центральный банк выпускает цифровую валюту, становится фактически расчётным банком, розничным, потому что он открывает вам счета непосредственно. Вот, но вся операция проходит по счетам, как в обычном банке, — не непосредственно, то есть нужно две воли. И в каком-то смысле цифровые валюты центральных банков, которые account-based, — не такие цифровые. Вот, они просто центральные банки, как вот этой страны, которая выпускает, делает, ну, фактически расчётным центральным банком, розничным.
Александр Селезнёв: Так, окей. То есть, давай сейчас я попробую ещё раз.
Михаил Ионцев: И они вытесняют, условно говоря, безналичную ликвидность уже. То есть у нас есть наличка, и вот цифровые валюты центральных банков — они ведут себя как безналичка. И цифровой рубль, например, будучи account-based, потому что у нас в 161-м законе, вот, собственно говоря, в 23-м году появились изменения, которые… там появилась статья «счёт цифрового рубля». Вот, и это говорится о том, что счёт цифрового рубля является видом банковского счёта. Просто вы открываете этот счёт не в кредитной организации, а в Центральном банке. Вот.
Александр Селезнёв: Окей. То есть, давай попробую уточнить, верно ли я понял. То есть у нас сейчас там два варианта — это account-based, ну, account-based мне понятно, здесь, да.
Михаил Ионцев: Обычный банковский счёт, собственно говоря.
Александр Селезнёв: Только в Центральном банке.
Михаил Ионцев: Да.
Александр Селезнёв: Token-based, получается, что нет какого-то аккаунта, на котором написано, условно, «Александр Селезнёв», а есть там просто какое-то количество… там, не знаю, я так понимаю, что у меня, может быть, там, я могу на телефоне там хранить, там, сколько-то там, 10 там рупий, неважно, могу там на компьютере хранить 100 рупий. И, то есть, нет одного, условно, аккаунта, из которого зонтиком вот это всё исходит, на котором написано «Александр Селезнёв».
Михаил Ионцев: А, всё, я понял. То есть токены — это такие же цифровые права, только их выпускает уже центральный банк. Представь себе, вот, ну, вот мы обсуждали с тобой до этого цифровые права, но здесь их выпускает просто центральный банк и говорит: «Вот, ими можно рассчитываться, пожалуйста, я их эмитент, как бы, я контролирую полностью здесь эмиссию и так далее и тому подобное, пользуйтесь».
И именно такую, например, тестил цифровой евро, тоже token-based модель, и она потом тестировалась в проекте Guardian в Сингапуре.
Александр Селезнёв: Я понял. Хорошо, окей, это очень интересно.
Если вернуться к цифровому рублю, то мы, получается, цифровой рубль — это он у нас, когда в следующем году будет, он будет account-based. То есть всё-таки будет аккаунт, на котором написано «Александр Селезнёв».
Михаил Ионцев: Да, конкретному лицу открывается там и так далее.
Александр Селезнёв: Это просто, условно, база данных какая-то или там-таки есть какой-то блокчейн под капотом? Если есть, то зачем?
Михаил Ионцев: Ну, смотри, то есть, как бы, у нас, во-первых, нужно сказать, что в целом у нас закон уже вступил в силу — 161 изменений и там в закон о валютном контроле, регулировании. И недавно вот появились изменения в 115 закон, огромный блок, связанный с ПОД/ФТ — операцией с цифровым рублём и так далее. И, ну, то есть огромная работа проделана, и это всё уже действующее законодательство. Единственное, что в нём участвует ограниченный круг лиц. То есть, в принципе, тот круг лиц, который может принимать участие в совершении операции различных с цифровым рублём, — он ограничен, он потихоньку растёт и так далее.
И, ну, как бы, здесь, опять же, вот, как бы, нет спешки какой-то в плане того, что лучше там семь раз проверить, один раз отрезать. Если говорить о том, какая технология используется, то, в принципе, я так понимаю, что технологии распределённого реестра каким-то образом задействованы здесь, но наверняка я сказать не могу, потому что я просто, ну, это нигде не написано, вот, ни в одном нормативном акте, нигде. Ну, как бы, это и не важно.
Здесь, опять же, важна экономика. То есть не столько технологии важны, сколько экономика. Потому что, в принципе, там, как бы, центральные банки, ну, там, государства, — они обладают достаточно мощными информационными системами, которыми могут предоставить высокий уровень информационной безопасности гарантировать и операционной непрерывности. Вот, поэтому, на мой взгляд, здесь вопрос технологии — он чуть ли не пятый или не десятый, и не так важно, какую технологию они используют. Но вот, в целом, понятно, что там token-based модели с большой долей вероятности будут использовать технологию распределённого реестра.
Account-based модели, тут технология уходит там на 50-й план, на 100-й план. Тут самое главное является то, что, опять же, изменяется экономическая модель центрального банка в государстве — что он становится розничным расчётным банком, который предоставляет розничные услуги по расчётам своим гражданам.
Александр Селезнёв: Окей, абсолютно понятно. Вот акценты, как бы, на другом расставляются, получается.
Михаил Ионцев: Ну, у нас подкаст по технологии, поэтому нас это интересует.
Александр Селезнёв: А какой максимально общий вопрос — какой сейчас вообще в мире статус у CBDC, общий… Давай я попробую сейчас вот как-то про это поговорить — что меня интересует, и дальше, наверное, мы поймём, как на это отвечать.
Я вот там не так давно у меня был опыт, я там аж выступал в панели про CBDC. И там поднимались вопросы, которые ещё сейчас тебе тоже задам. И я пока готовился к панели — я там, во-первых, конечно же, ChatGPT спросил, во-вторых, я посмотрел тоже там какие-то доклады, я уже забыл, если честно, какие-то каких-то международных организаций на эту тему.
У меня появилось ощущение, что CBDC сейчас очень большой интерес везде. То есть там странно отрицать. И где-то он уже вроде как введён в какую-то экспериментальную эксплуатацию, а где-то вроде как и в промышленную эксплуатацию. То есть там сейчас, например, часто приходится читать про то, что вот в Казахстане вот CBDC — вот он уже там в эксплуатации, там вроде, значит, используется там для каких-то вещей.
Вот, в США вроде как они там сейчас наложили запрет на CBDC розничный, но при этом они хотят вводить CBDC какой-то там, не знаю, я так понимаю, для каких-то там крупных entities. И у меня сейчас ощущение, что, ну, однако, если вот начинать там пытаться искать конкретику, то везде достаточно быстро обтыкаешься на то, что не совсем понятно, а что там на самом деле у них в продакшене, кто этим на самом деле пользуется. И появляется ощущение, что сейчас все скорее как бы щупают вот так, прощупывают эту тему, и даже те, кто говорит, что у них в продакшене — на самом деле у них не в продакшене, а так, типа, там, пять каких-то там доверенных лиц там подключённые на 70 тысяч рублей условно. И они вот там пытаются там пользоваться этим, какие-то там кривые случаи ищут, бумажками обкладываются и так далее.
Правильно ли я это понимаю, или всё-таки действительно где-то используется это уже там? Цифровой юань, например. Вот цифровой юань, вот, интересно, вроде как он есть, вроде используется, но сложно найти конкретику.
Михаил Ионцев: Да, смотри. Вообще, собственно говоря, CBDC является одним из видов развития платёжной инфраструктуры, собственно, национальной платёжной системы. Она состоит там из разных компонентов, является частью государственного финансового суверенитета любого государства. И она включает там национальную систему платёжных карт, она включает в себя там систему быстрых платежей, которые можно внедрить, систему там операторов электронных денежных средств, систему операторов электронных средств платежа и так далее, и так далее. Это масса, то есть, как бы, участников национальной платёжной системы и тому подобное.
И в принципе те государства, где очень развиты эти сервисы, CBDC — это такая, ну, как бы, ещё одна плюшка, ещё одна возможность, которая там финансовую доступность, офлайн-расчёты может предоставить и тому подобное. Но опять же там, где это и так уже развито, то, ну, как бы, CBDC не всегда может найти определённое применение. Это опять же написано в отчёте Банка международных расчётов, посвящённом правовым аспектам CBDC. И, ну, как бы, всё зависит от целеполагания определённого государства, какую проблему мы решаем.
Так, например, вот одно из первых был там Sand Dollar, так называемый, — это багамский доллар или песчаный доллар, потому что островное государство, что делать. Как бы очень тяжело, как ты понимаешь, быть там с инкассацией — то есть наличку возить там на кораблях, это небезопасно, и, ну, как бы, и там и пираты, и всё что угодно может быть. Поэтому решили, что по интернету, и поэтому у них там token-based модель появилась, и она эффективно, она работает, она решает их конкретную проблему островного государства. Это архипелаг, и вот он там работает. Всё, пожалуйста, государство выпускает токен, которым рассчитывается, расплачивается. Они решили свои проблемы, связанные с безопасностью. Мне гораздо легче контролировать на суше безопасность серверов, чем лодок в море. Ну, понятная задача, по-моему, предельно.
И найра, например, или нигерийская цифровая валюта — тоже в стране плохо развитые платёжные сервисы. Появление такого платёжного инструмента, который контролируется центральным банком Нигерии, решил массу вопросов и повысил доступность финансовых услуг, просто потому что те сервисы платёжные, которые может предоставить им центральный банк в их стране, он гораздо более удобный, чем те, которые предоставить могут там банки, которые возникают — там, ну, проблемы с финансовой стабильностью есть. Поэтому вот банк говорит: «Я точно никогда не рухну, давайте через меня рассчитываться». Собственно говоря, пожалуйста, тоже эффективная модель.
Отдельно про Китай. Я не являюсь специалистом в праве Китая. Я постоянно вижу релизы, которые публикуются о результатах внедрения и использования цифрового юаня, но ни правовой оболочки, ни правовой обвязки, ничего этого я не видел. Мне сложно проанализировать. То есть, да, разговоров много, но конкретно взглянуть на какие-то конкретные правовые модели — всё настолько закрыто, что судить сложно. У меня есть коллега, China Watcher, это СПбГУ, работает юрист, и, собственно говоря, он является одним из тех немногих людей, которые хоть что-то могут проанализировать из того, что есть в Китае про цифровой юань. Сложно судить. Как бы разговоров много, но, как бы, дым идёт — огня не видно. Я пока что так оцениваю.
Также в Казахстане — я не видел, закон они обещали в 25-м году разработать только. То есть я как юрист могу оценить только через закон. В принципе, мы там можем технологию разрабатывать и так далее и тому подобное, но пока это не приобретёт какого-то правового оформления, это фактически не существует, условно говоря. Это там, ну, как бы, просто вещи, просто имущественные права какие-то могут быть и так далее, которые ничем никак не обозначены, не названы в законе, ну, какие-то сущности, сами по себе существуют без конкретного правового режима.
Поэтому в Казахстане я тоже не видел закона. Я видел в Кыргызстане закон о цифровом соме. Вот, в принципе, он вышел тоже вот в мае или июне этого года, там отложен до 27-го года вступления, там двухуровневая модель, там можно тоже анализировать, что да как, но конкретики там как бы не хватает, чтобы определить.
Поэтому, да, здесь я могу сказать только об отдельных инициативах, например, отдельных стран ЕС, которые в конкретных проектах уже участвовали и предметно описывали в документации этих проектов, что за CBDC они используют, как и для чего. Но, как бы, мне хочется сказать так, что конечно США запретили выпускать стейблкоины… Ой, вернее, они — оговорка по Фрейду — запретили выпускать CBDC. Но фактически, посредством выпуска стейблкоинов, привязанных к доллару, они сказали: «Вот, пожалуйста, децентрализованную систему стейблкоинов мы вам предоставляем». То есть любой эмитент может выпускать свой CBDC, KYC/AML, и вперёд с песней.
Но опять же, это не бином Ньютона, потому что электронные денежные средства и до этого регулировались, и регулирование есть, оно понятно, оно существует и так далее. Его особенности просто GENIUS Act предусмотрел. То есть это звучит хайпово, но если в сухой остаток смотреть: окей, нам разрешили EMDs на блокчейне выпускать. Отлично! Ну, теперь и на блокчейне. Вот, собственно, и MiCAR тоже к этому сводится.
Вот, то есть я бы с точки зрения развития платёжной инфраструктуры США взглянул на это, что, ну да, США сказали, что вот, там, централизованного выпуска какого-то ЦВЦБ не будет, но по большому счёту стейблкоины закрывают эту потребность. GENIUS Act он фактически создаёт все те же самые возможности для token-based CBDC, в кавычках.
Александр Селезнёв: Супер. На самом деле, знаешь, мы уже отчасти, как бы, про… Мы вот сейчас заходим на следующий вопрос, который вот я хотел задать. Это, собственно, зачем он вообще нужен. То есть, знаешь, я когда… Когда читаешь какие-то пресс-релизы, глаза мозолят примерно следующие формулировки, что CBDC — это удобный и безопасный способ для, там, граждан оплачивать, там, те или иные, там, не знаю, товары и услуги или принимать оплату. Я думаю: а сейчас что, неудобно, небезопасно через, там, не знаю, там, карточкой заплатить или, там, не знаю, там, по номеру телефона СБПшку кому-нибудь скинуть? То есть, как будто бы непонятно, зачем это надо.
И при этом, ну, обычный, там, средний гражданин, вот он думает: «Ну, мне и так всё нормально, я и так могу что угодно платить, за что угодно, там, деньги принимать, в рамках закона, конечно». Вот, однако мне тут сейчас Центробанк хочет навязать какой-то инструмент, и у меня появляется, там, у Average Joe появляется подозрение: что-то они там мутят, что-то они, наверное, хотят меня контролировать пуще, чем они меня сейчас контролируют.
И я думаю, там, для себя не новость, что сейчас, там, в интернете — и в англоязычном, и в русскоязычном — когда, там, обсуждаются CBDC, очень часто, там, такие настроения крайне настороженные, что «это они хотят нам просунуть свой цифровой ГУЛАГ, это они хотят, значит, нас контролировать все-все-все платежи, кто куда, кому, за что платят».
Вот, так как мотивация не ясна, ну, вот, ты уже отчасти сказал, что мотивация — это отчасти в тех странах, где просто нет развитой банковской системы, хоть какую-то там, ну, ввести удобные средства платежа для людей. Вот, какие ещё мотивации во введении CBDC?
Михаил Ионцев: Ну, смотри. Есть, собственно говоря, на самом деле, как бы, одну из ключевых задач, вот, финансовой стабильности, если посмотреть программные документы СФС или Банка России, — это, конечно, поддержание вот этой вот, знаешь, удобной, непрерывной возможности совершать платежи. Вот, и здесь, как бы, развитие CBDC в любом государстве — оно направлено на диверсификацию этих способов. И есть, например, исследования, там, европейских экономистов, в том числе Рафаэля Ауэра, о конкуренции денег, о конкуренции средств платежа, о том, что, в принципе, вот эта конкуренция разных инфраструктур между собой — оно способствует, ну, как бы, повышению их эффективности, по большому счёту. Ну, вот, это там то, в чём заинтересовано государство, — в снижении издержек, связанных с совершением платежей.
Например, звучит уже неплохо. Я вот, например, очень люблю законодательство о защите конкуренции и любые инициативы по развитию, да, конкуренции какой-то там, диверсификации поддерживаю. Можно ли использовать что-то для контроля? Ну, вообще, всё можно использовать для контроля. Можно метить наличные деньги, и никто тебе не запретит, и так уже делают, по-моему, в рамках оперативно-розыскной деятельности, в любых государствах и фильмах — это везде показано. А можно там, условно говоря, в принципе, использовать для, ну, там… Безналичные денежные платежи вообще легко отслеживать, международный эквайринг там, пожалуйста, трекинг осуществляется легко, оборот ценных бумаг, трекинг устанавливается просто на раз-два прозрачным становится.
Да, это вопрос там депозитарной тайны, вопрос банковской тайны — это очень актуальные проблемы и очень актуальные вопросы. Но, как бы, до тех пор, пока мы остаёмся там… Вот, мы, кстати, недавно с Николаем обсуждали тоже у меня на юридическом клубе проблему такую, что блокчейн уже стал настолько прозрачным, что он не может обеспечить банковскую тайну. Ну, условно говоря, какую-то приватность уже оставьте мне — всё окей, но не надо отслеживать за мной всё. Но ведь буквально в блокчейне уже возникает не проблема анонимности, а проблема тотальной прозрачности.
И вот, ну, как бы, но банковская тайна или там финансовые тайны, страховая и другие — они появились неспроста. Во многом мы обязаны, конечно, римским папам в своё время, в эпоху Возрождения появлению этой тайны, чтобы никто не видел, как церковь расходует свои денежные средства. Вот, но, в общем-то, другим она понравилась тоже — классным правовым режимом оказалась для денежек, и, в общем-то, распространилась на другие виды.
И в целом, да, это очень актуальный вопрос, и во многом часто именно, ну, как бы, центральные банки выступают теми, кто первый стоит на страже этой банковской тайны и на её охране. И у нас вот коллеги часто выступают, когда, да, и экспертам в сообществе развеивают мифы, связанные там с цифровым рублём, там, то его крипторублём назовут. Вот, я, у меня студенты тоже — вот, одна из первых лекций, которые я провожу, вот, и скоро начнётся этот старт, что в вышке там, что в РАНХиГС, что в МГЮА, — это развенчание мифов, связанных вот с цифровым рублём, что с цифровой валютой, что с цифровыми правами.
Вот, потому что эта сфера, к сожалению, она, как бы, насыщена и мифами, и стереотипами. И вот, ну, одной из целей моего сегодняшнего, в том числе, выступления — она заключается в развенчании как стереотипов, так и мифов. Вот, ну, и преподаю я по тем же, собственно говоря, резонам.
Александр Селезнёв: То есть, если вот упростить мой предыдущий вопрос до единственного тезиса: чем СБП сейчас не цифровой рубль? Твой ответ можно интерпретировать как то, что цифровой рубль — это некоторый СБП-2, чтобы СБП-1, так сказать, чувствовал дыхание конкуренции. Верно я понимаю?
Михаил Ионцев: Ну, в том числе. Здесь просто, как бы, заключается в том, что, ну, опять же, всё написано в программных документах, это всё публично, как бы. И вот, рассказать о них, о том, что основные направления развития финансового рынка — они подчёркивают, собственно говоря, почему появился, зачем цифровой рубль появился. И там, в принципе, экономически достаточно взвешенные аргументы изложены, что это и повышение конкуренции, это и, ну, как бы, больше возможностей лучше, чем меньше возможностей. И там будут там, как бы, как я понимаю, тарифы меньше, и там возможности использования, ну, там, смарт-контрактов, видимо, — технологическая возможность действительно предоставляет широкий спектр таких смарт-контрактов использовать.
Это, ну, как бы, сейчас он только пилотируется, и здесь действительно очень аккуратно идёт вот эта работа, потому что хочется предоставить какой-то удобный интересный продукт. И, ну, как бы, сами смарт-контракты — они же действительно могут конструировать и создавать, ну, там, разные интересные инструменты, по платежам, там, по автоплатежам, по платежам всяким таким и так далее.
Может быть, там, в России мы огромные молодцы, мы развили очень крутую систему платежей. То есть платёжная, национальная платёжная система у нас очень мощная. Ну, на мой взгляд, вот я, там, сравнительной экономикой когда занимаюсь, и, ну, мы, там, ну, как бы, в каком-то смысле мы здесь законодатели мод, что у нас очень здорово это настроено, особенно в пространстве СНГ. И, конечно, развитие нового инструмента — оно отчасти связано с, там, амбициями регулятора, который тоже хочет оставаться, вот, в фарватере развития финансовых технологий, опробации их, там, рассмотрения их, изучения и предоставления наиболее каких-то выгодных, наиболее удобных инструментов конечным потребителям.
Александр Селезнёв: У меня вот сразу, знаешь, какой ещё вопрос возникает. Насколько, опять же, вот, я изучал, там, какие-то материалы, а одна из таких, один из факторов, которые стоит учитывать, — это настороженность коммерческих банков по отношению к появлению цифровых валют центральных банков, потому что, ну, не без основания, особенно, там, в каких-то странах, может быть, менее, там, развитых. Коммерческие банки могут считать, что центральный банк может использовать, особенно в account-based модели, как мы сейчас выяснили, — по сути, центральный банк выходит на сцену розничных банков, и он может использовать своё положение на рынке для неконкурентного… ну, для, ну, как… как неконкурентное преимущество, как, так сказать, для того, чтобы, там, коммерческие банки как-то на этом рынке потеснить.
Соответственно, как вот это опасение развеивается? То есть я видел, что там обещают, ну, там, что в качестве, там, того, чтобы развеивать вот эти опасения коммерческих банков, там, какие-то отрицательные проценты на депозиты используются, ну, планируются использовать, вот, в разных CBDC, какие-то хардкапы, там, что ты не можешь CBDC на своём аккаунте хранить больше, там, чем сколько-то, там, денег.
Михаил Ионцев: Да, ограничение вводится по счёту — это ключевой, собственно говоря, инструмент регулирования.
Александр Селезнёв: Да, вот сейчас… Можно, я, наверное, сейчас попробую как-то вот финально этот вопрос свой задать, как обычно. Как вы вообще смотрите на это, ну, то есть, насколько вообще валидно вот это опасение коммерческих банков о том, что они могут существенно пострадать от введения CBDC и вот цифрового рубля, в частности? И как с этим бороться, как не привести к тому, что у нас банковская, ну, у нас или где-то в какой-то ещё стране, банковская сфера просто рухнет из-за введения CBDC?
Михаил Ионцев: Ну, это уже, знаешь, мы перетекаем в рубрику «Мифы о CBDC». Это один из самых распространённых мифов, он очень просто развеивается. И ты отчасти уже в своём вопросе, ну, как бы, указал и ответ, что экономические инструменты управления вот, да, как бы, ликвидностью безналичной — они давным-давно выработаны. И они, как бы, шоки оцениваются разными регуляторами от введения своей CBDC, account-based, и достаточность инструментов для управления шоками ликвидности.
Во-первых, эти шоки ликвидности — они, как бы, любые экономисты расскажут лучше. Можно вот зайти там на eLibrary или Google Академию поискать, там «управление ликвидности при внедрении CBDC» — вам тысячи статей выйдут. И оказывается, что если там установить вот эти хардкапы на хранение определённого количества CBDC на своём счёте и запретить кредитование в CBDC, то в принципе получается, что, как бы, шоки от ликвидности настолько невысоки, что они управляются не то что очень просто, а в рамках вот уже существующих инструментов, там, которые есть по управлению ликвидностью у любого центрального банка.
Но это уже мы в экономическую тему заходим, которую ты сдаёшь. Поэтому, да, как бы, и в концепции цифрового рубля, там потом и в докладе о цифровом рубле эти риски описывались и уже инструменты их купирования тоже.
Например, на цифровых рублях нельзя кредитоваться, то есть счёт цифрового рубля не кредитуется, ты в минус не уйдёшь никогда. Плюс там ограничение есть на хранение определённого объёма цифровых рублей — по-моему, 300 тысяч, и всё, собственно говоря.
Опять же, да, это просто дополнительный инструмент, который направлен в первую очередь на, как бы, рассмотрение того, какие вот новые возможности может дать эта технология и в рамках пилота. Поэтому, собственно говоря, идёт возможность вот такая, осуществление цифрового рубля — она предоставлена ограниченному кругу лиц, чтобы, собственно говоря, изучить предельно все возможности этой модели и понять её плюсы, там, минусы, недостатки и так далее.
Но вот в части именно этого мифа, опять же, возвращаясь к основным направлениям развития финансового рынка — это отдельные документы, там описаны все эти риски тоже. В разделе, по-моему, седьмое приложение — цифровой рубль.
Александр Селезнёв: Я прямо чувствую, как после этого выпуска придётся собирать вот эти ссылки на все эти документы, чтобы дать в шоу-ноты к выпуску. Михаил, я в целом, мне кажется, для первого подхода к теме юридических аспектов криптовалют, цифровых валют, как это ни будем называть, в целом, мне кажется, неплохо. Мы очень многие вопросы осветили, и насколько можно было это сделать вот так вот на бегу за два часа по всей теме сразу.
Поэтому я думаю, что если тебе есть что ещё добавить, чтобы подытожить как-то этот выпуск, или, может быть, тебе есть что прорекламировать или объявить, то, пожалуйста, тебе слово, и будем потихонечку двигаться к заключению.
Михаил Ионцев: Ну, я, конечно, очень благодарен, что меня пригласил ты на свой подкаст, потому что, как бы, для меня вот это, я сегодня уже говорил, просветительская часть и развенчание мифов, и вот это снятие скорлупы стереотипов с разных видов финансовых технологий — это моя какая-то ценность, моя задача. Вот, для меня это моя часть моей социальной ответственности, какой-то гражданской ответственности, что я считаю важным. Я для себя это считаю важным.
Плюс вот финансовые технологии — все мои курсы, которые я преподаю, они связаны с финансовыми технологиями. Всё новое — оно часто пугает, и оно часто непонятно. И, на мой взгляд, важно объяснять, рассказывать и пояснять о том, что действительно там пугает что-то, что действительно требует какого-то регулирования, ограничений там определённых, а что могут дать финансовые технологии и новые ли это, и так далее.
В общем, это такая важная, аккуратная, скрупулёзная работа, такое подробное рассмотрение под микроскопом новых каких-то сущностей. Для меня это тоже часть моего интереса.
И поэтому вот выступить на твоей площадке для меня как для эксперта в этой сфере, которым я себя пытаюсь считать, по крайней мере, по признанию своих коллег, тоже очень важно.
Ну, прорекламировать я могу только то, что читайте мои статьи, в общем, ссылайтесь на них, дискутируйте со мной, спорьте, не соглашайтесь, соглашайтесь. И у меня достаточно много работ вышло за последние два года в этой сфере. И я всегда активно в дискуссии нахожусь и в сфере экономики. У меня есть статья, посвящённая тому, можно ли цифровую валюту считать именно валютой или товаром, деньгами или нет. Экономическая статья. У меня есть статьи, посвящённые цифровым правам, их отдельным аспектам, различным видам, классификациям, отдельным режимам, особенностям и так далее. Вот, поэтому приглашаю к дискуссии.
Александр Селезнёв: Окей, спасибо тебе большое, Михаил, что зашёл. Думаю, не в последний раз, потому что у меня вот есть ощущение, что после того, как я этот выпуск как следует мозгом обработаю, у меня возникнут какие-то новые вопросы. Возможно, ещё что-то изменится, и можно будет сделать ещё выпуск.
Ещё раз спасибо, и я хотел бы сказать также спасибо нашим слушателям, тем, кто дослушал нас до конца. И я хотел бы поблагодарить ещё раз тех, кто поддерживает нас на сайте Patreon, тех, кто поддерживает нас на сайте Boosty, и тех, кто поддерживает нас на Yuki Finance.
А также огромное спасибо нашим спонсорам. Это Zerion, Enterprise Grade Web3 API, это 1inch, лидер DEX-агрегации. Это Fluence, децентрализованная облачная платформа. И это Acki Nacki, самый быстрый возможный блокчейн.
Читайте нас в Telegram, слушайте нас на всех возможных подкаст-площадках. И до новых встреч. Большое спасибо.
Михаил Ионцев: До новых встреч.